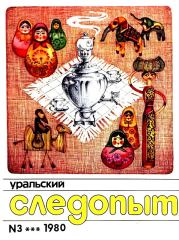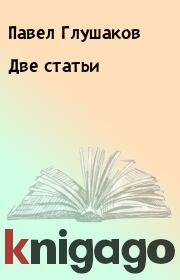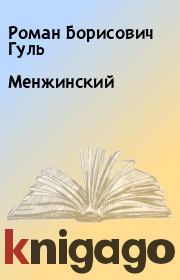Роман Борисович Гуль - Одвуконь два : статьи
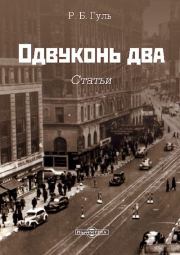 | Название: | Одвуконь два : статьи |
Автор: | Роман Борисович Гуль | |
Жанр: | Литературоведение (Филология) | |
Изадано в серии: | неизвестно | |
Издательство: | неизвестно | |
Год издания: | - | |
ISBN: | неизвестно | |
Отзывы: | Комментировать | |
Рейтинг: | ||
Поделись книгой с друзьями! Помощь сайту: донат на оплату сервера | ||
Краткое содержание книги "Одвуконь два : статьи"
Читаем онлайн "Одвуконь два : статьи". [Страница - 4]
мифов. Но это без
него давно – 73 года тому назад! – сделано и сделано прекрасно
Валерием Брюсовым. В своей книге «Мой Пушкин» в первой же
статье Брюсов пишет: «Нам трудно представить себе жизнь
Пушкина, как человека, как знакомого, с которым встречаешься, здороваешься, разговариваешь. Его жизнь столько раз была
предметом мертво-ученых изысканий, и мы так вчитались в
эти изыскания, что для нас Пушкин – какое-то отвлеченное,
нарицательное слово, имя, объединяющее разные прославленные произведения, а не живое лицо. Между Пушкиным и нами
поставлено слишком много увеличительных стекол – так много, что через них почти ничего не видно. Но слава Пушкина и
значение его, столь же как позднейших исследователей, ослепляли и его современников, сверстников, писавших свои воспоминания о нем. В большинстве этих воспоминаний Пушкин
тоже неживой, тоже отвлеченный. Приходится чутьем, вдохновением выбирать из рассказов и показаний современников,
что в них верно до глубины и что только внешне верно – угадывать Пушкина».
И Брюсов прекрасно «угадывает» Пушкина, давая живой
образ Пушкина и человека и поэта. Терц же вместо образа Пушкина невольно подает читателю свой собственный
портрет – Абрама Терца – а уж никак не Пушкина. И вот тут,
в смысле как пишет о Пушкине Терц, я думаю, он единственный во всей пушкиниане.
9
«Искусство свято, – писала Марина Цветаева, – о святости
искусства у атеиста речи быть не может, – он будет говорить
либо о пользе искусства, либо о красоте искусства. Посему
настаиваю, речь моя обращена исключительно к тем, для кого – Бог – грех – святость – есть». Мы согласны с Цветаевой –
подлинное искусство – «свято».
Я вас любил, любовь еще быть может
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит,
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим.
Я вас любил так искренне, так нежно,
Как дай вам Бог любимой быть другим.
Имя человека – то есть Пушкина – написавшего это стихотворение (и много другого на той же надосягаемой лирической
высоте) для меня – свято. Я согласен с тезисом Цветаевой.
А вот что – как бы в ответ Цветаевой пишет Абрам Терц: – «Помимо религиозных эмоций в чистом искусстве есть привкус
распутства. Недружелюбная 1 формула, примененная невзначай 2 к Ахматовой: “барынька, мечущаяся между будуаром и
моленной” – правильно определяет природу поэзии, поэзии
вообще, как таковой, передает зыбкую сущность искусства в
целом. К числу этих барынек принадлежала и Муза Пушкина».
Признаюсь, прочтя это, я внутренно не мог удержаться от
очень крепкого словца на букву м! Но, конечно, в этой резкости
я не прав. Я погорячился. Я беру это слово назад. Абрам Терц не
м……, он всего навсего – советский хамо-хулиган. И в этом он
не виноват. У подавляющего большинства людей бытие определяет сознание. И только у очень редких – сознание освобождается от бытия. Синявский не из таких. Раб Дубровлага
восхитился тонкостью понимания искусства товарищем Ждановым. Это диктуется бытием и вполне нормально. А чего вы
Обратите внимание, как это «нежно» сказано! А почему? Р. Г.
Почему «невзначай»? Жданов прекрасно знал, что говорил, наверное даже
показывал «хозяину», Сталину, «брульон» своего погромного выступления
против Ахматовой и Зощенко, против даже тени свободы в литературе.
А «профессор Сорбонны» Синявский это цитирует, с этим недвусмысленно
соглашаясь! Р. Г.
1
2
10
хотите? Чтоб он не восхитился? Но это было бы анормально.
Вполне нормально, например, что в КЛЭ в статье о Николае Гумилеве Синявский сообщил, что «мечта Гумилева о “подвиге”
и “геройстве” носила реакционный характер».
Это, конечно, идет от того же самого корня, что и: –
«Пушкин, Лермонтов, Некрасов
Трубадуры чуждых классов!»
Природу поэзии (и искусства вообще) А. А. Ахматова понимала не так, как Жданов и Терц. В своем «Слове о Пушкине» она
писала: «Его дом стал святыней для всей его родины и более
полной, более лучезарной победы свет не видел... Он победил и
время и пространство».
Но может быть Ахматова и Цветаева поэзию просто не понимали? Во всяком случае профессор Сорбонны Терц утверждает, что Пушкин был просто-напросто... Хлестаков! Терц
пишет (сначала цитируя слова Хлестакова): – «Я признаюсь сам
люблю иногда заумствоваться: иной раз прозой, а в другой --">
него давно – 73 года тому назад! – сделано и сделано прекрасно
Валерием Брюсовым. В своей книге «Мой Пушкин» в первой же
статье Брюсов пишет: «Нам трудно представить себе жизнь
Пушкина, как человека, как знакомого, с которым встречаешься, здороваешься, разговариваешь. Его жизнь столько раз была
предметом мертво-ученых изысканий, и мы так вчитались в
эти изыскания, что для нас Пушкин – какое-то отвлеченное,
нарицательное слово, имя, объединяющее разные прославленные произведения, а не живое лицо. Между Пушкиным и нами
поставлено слишком много увеличительных стекол – так много, что через них почти ничего не видно. Но слава Пушкина и
значение его, столь же как позднейших исследователей, ослепляли и его современников, сверстников, писавших свои воспоминания о нем. В большинстве этих воспоминаний Пушкин
тоже неживой, тоже отвлеченный. Приходится чутьем, вдохновением выбирать из рассказов и показаний современников,
что в них верно до глубины и что только внешне верно – угадывать Пушкина».
И Брюсов прекрасно «угадывает» Пушкина, давая живой
образ Пушкина и человека и поэта. Терц же вместо образа Пушкина невольно подает читателю свой собственный
портрет – Абрама Терца – а уж никак не Пушкина. И вот тут,
в смысле как пишет о Пушкине Терц, я думаю, он единственный во всей пушкиниане.
9
«Искусство свято, – писала Марина Цветаева, – о святости
искусства у атеиста речи быть не может, – он будет говорить
либо о пользе искусства, либо о красоте искусства. Посему
настаиваю, речь моя обращена исключительно к тем, для кого – Бог – грех – святость – есть». Мы согласны с Цветаевой –
подлинное искусство – «свято».
Я вас любил, любовь еще быть может
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит,
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим.
Я вас любил так искренне, так нежно,
Как дай вам Бог любимой быть другим.
Имя человека – то есть Пушкина – написавшего это стихотворение (и много другого на той же надосягаемой лирической
высоте) для меня – свято. Я согласен с тезисом Цветаевой.
А вот что – как бы в ответ Цветаевой пишет Абрам Терц: – «Помимо религиозных эмоций в чистом искусстве есть привкус
распутства. Недружелюбная 1 формула, примененная невзначай 2 к Ахматовой: “барынька, мечущаяся между будуаром и
моленной” – правильно определяет природу поэзии, поэзии
вообще, как таковой, передает зыбкую сущность искусства в
целом. К числу этих барынек принадлежала и Муза Пушкина».
Признаюсь, прочтя это, я внутренно не мог удержаться от
очень крепкого словца на букву м! Но, конечно, в этой резкости
я не прав. Я погорячился. Я беру это слово назад. Абрам Терц не
м……, он всего навсего – советский хамо-хулиган. И в этом он
не виноват. У подавляющего большинства людей бытие определяет сознание. И только у очень редких – сознание освобождается от бытия. Синявский не из таких. Раб Дубровлага
восхитился тонкостью понимания искусства товарищем Ждановым. Это диктуется бытием и вполне нормально. А чего вы
Обратите внимание, как это «нежно» сказано! А почему? Р. Г.
Почему «невзначай»? Жданов прекрасно знал, что говорил, наверное даже
показывал «хозяину», Сталину, «брульон» своего погромного выступления
против Ахматовой и Зощенко, против даже тени свободы в литературе.
А «профессор Сорбонны» Синявский это цитирует, с этим недвусмысленно
соглашаясь! Р. Г.
1
2
10
хотите? Чтоб он не восхитился? Но это было бы анормально.
Вполне нормально, например, что в КЛЭ в статье о Николае Гумилеве Синявский сообщил, что «мечта Гумилева о “подвиге”
и “геройстве” носила реакционный характер».
Это, конечно, идет от того же самого корня, что и: –
«Пушкин, Лермонтов, Некрасов
Трубадуры чуждых классов!»
Природу поэзии (и искусства вообще) А. А. Ахматова понимала не так, как Жданов и Терц. В своем «Слове о Пушкине» она
писала: «Его дом стал святыней для всей его родины и более
полной, более лучезарной победы свет не видел... Он победил и
время и пространство».
Но может быть Ахматова и Цветаева поэзию просто не понимали? Во всяком случае профессор Сорбонны Терц утверждает, что Пушкин был просто-напросто... Хлестаков! Терц
пишет (сначала цитируя слова Хлестакова): – «Я признаюсь сам
люблю иногда заумствоваться: иной раз прозой, а в другой --">
Книги схожие с «Одвуконь два : статьи» по жанру, серии, автору или названию:
 |
| Николай Георгиевич Мельников - О Набокове и прочем. Статьи, рецензии, публикации Жанр: Культурология и этнография Год издания: 2015 Серия: Научное приложение. Вып. cxxxi |
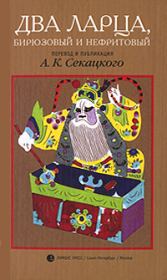 |
| Средневековая литература - Два ларца, бирюзовый и нефритовый Жанр: Древневосточная литература Год издания: 2007 |
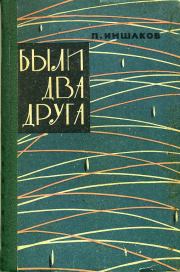 |
| Павел Кузьмич Иншаков - Были два друга Жанр: Советская проза Год издания: 1963 |
Другие книги автора «Роман Гуль»:
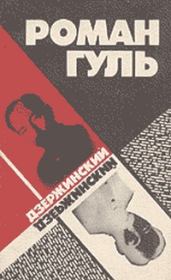 |
| Роман Борисович Гуль - Дзержинский (Начало террора) Жанр: История: прочее Год издания: 1974 |
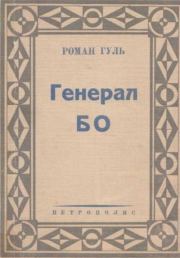 |
| Роман Борисович Гуль - Генерал БО. Книга 1 Жанр: Историческая проза Год издания: 1929 |