Андрей Владимирович Колесников - Дом на Старой площади
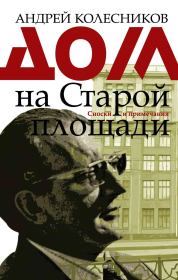 | Название: | Дом на Старой площади |
Автор: | Андрей Владимирович Колесников | |
Жанр: | Биографии и Мемуары | |
Изадано в серии: | Мемуары – xx век, Мемуары – xxi век | |
Издательство: | АСТ | |
Год издания: | 2019 | |
ISBN: | 978-5-17-110349-1 | |
Отзывы: | Комментировать | |
Рейтинг: | ||
Поделись книгой с друзьями! Помощь сайту: донат на оплату сервера | ||
Краткое содержание книги "Дом на Старой площади"
Андрей Колесников — эксперт Московского центра Карнеги, автор нескольких книг, среди которых «Спичрайтеры», «Семидесятые и ранее», «Холодная война на льду». Его отец — Владимир Колесников, работник аппарата ЦК КПСС — оставил короткие воспоминания. И сын «ответил за отца» — написал комментарии, личные и историко-социологические, к этим мемуарам. Довоенное детство, военное отрочество, послевоенная юность. Обстоятельства случившихся и не случившихся арестов. Любовь к еврейке, дочери врага народа, ставшей женой в эпоху борьбы с «космополитами». Карьера партработника. Череда советских политиков, проходящих через повествование, как по коридорам здания Центрального комитета на Старой площади… И портреты близких друзей из советского среднего класса, заставших войну и оттепель, застой и перестройку, принявших новые времена или не смирившихся с ними.
Эта книга — и попытка понять советскую Атлантиду, затонувшую, но все еще посылающую сигналы из-под толщи тяжелой воды истории, и запоздалый разговор сына с отцом о том, что было главным в жизни нескольких поколений.Читаем онлайн "Дом на Старой площади" (ознакомительный отрывок). [Страница - 6]
Отец очень гордился своим крестьянским происхождением, всегда подчеркивал, что его серо-голубые глаза — рязанские, считал, что умеет столярничать. Но в этом было некоторое преувеличение. Сформировался он сначала скорее в слободской, а потом в городской среде — коммунистической, уравнивавшей и нивелировавшей все и вся.
В строгом смысле слова он, конечно, был москвичом — с подросткового возраста, с войны, жил в самом центре города, рядом с улицей Горького, в Дегтярном переулке, а учился здесь же рядом в 167-й школе, бывшей 25-й образцовой, интересовался гуманитарными предметами и опереттой (шире — театром и кино в целом, собирался стать актером, занимался в драматических и хоровых кружках). Словом, социологически это была такая разночинная среда, из которой в том числе рекрутировалась будущая интеллигенция 1960-х годов. И деревней мои родители интересовались не больше, чем любые среднестатистические интеллигенты. Да, в домашней библиотеке были Виктор Астафьев, Валентин Распутин, Федор Абрамов. И лишь одна книга Василия Белова — очерки о народной эстетике на мелованной бумаге, изданные «Молодой гвардией». Огромное собрание поэзии, в котором не было Николая Рубцова. По-настоящему читанные тома — Распутин и Астафьев. Но тогда эти тексты входили в обязательный джентльменский набор советского интеллигента, и никакой русопятости, кроме любви к подмосковной природе (и к природе Балтики, Крыма и черноморского побережья Кавказа) не наблюдалось вовсе. «Русская партия» обошла стороной выходца из Рязанской области, коммунистический интернационал был важнее, равно как и жена-еврейка, теща-еврейка, родственники-евреи и друзья-космополиты — известный адвокат и видный редактор. Что уж говорить об отдыхе на северо-западном взморье — Рижском, на Куршской косе и в Паланге, в Таллине и Пярну. Отдыхе, сопровождавшемся общением с местными элитами и творческой интеллигенцией из метрополии.
Деревенская жизнь с ее твердым распорядком, своими вечными ценностями познавалась мною медленно и трудно летом 1941 года, когда после первых бомбежек меня отправили из Москвы к дедушке и бабушке в село Бугровка Черневского района Рязанской области. Спасали меня от авиационных налетов фашистов на Москву, а отправили прямо навстречу наступающим врагам, которые вошли в нашу деревню в ноябре.
К тому времени я уже вполне освоился с деревенской жизнью.
Ездил верхом на неоседланной лошади, работал на стоговании сена, на молотилке, крупорушке, да и вообще на подхвате — дел всегда хватало. Самое трудное испытание — работа пастухом. Пас телят, вставать надо было в 4 утра — это казалось невозможным, но чувство долга брало верх. Зато с форсом щелкал кнутом. Сначала не очень получалось, сплести кнут — большое искусство, но обучали меня опытные пастухи, и из тонких ремешков и конского волоса образовывалось это чудо: резкий рывок рукоятью — и получался громкий выхлоп, как выстрел. Это было своего рода щегольство, хвастовство уменьем. Телятам не очень это нравилось. Но самое ужасное в этом деле, когда телята, как дети, разбегались в разные стороны, а их нужно было собрать в одно место. Они же, как капризные ребятишки, не слушались. Вот тут-то и требовался кнут…
Иногда хозяйка жаловалась на меня, и тогда немедленно следовала расплата — вступала в дело статная Елена Сергеевна, которую мы все, дети и внуки, а также дед очень боялись и беспрекословно ей повиновались. Все ее внучки от разных детей получали ее имя, которое варьировалось: Лена, Леля, Ляля и моя сестра Ёлочка.
Ее мы привезли с Дальнего Востока, она родилась там, в городе Свободном, в 1937 году. Я очень ее любил и всегда заботился о ней. В семье сложилось такое положение: Ёлочка — папина дочка, а я — маменькин сыночек, даже внешне. Сестра была на моем попечении — нелегко быть нянькой в 10-11-летнем возрасте, особенно когда соседские ребята зовут гулять на улицу. Тогда я выходил с --">Книги схожие с «Дом на Старой площади» по жанру, серии, автору или названию:
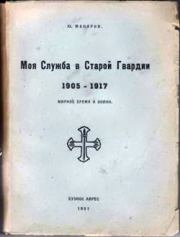 |
| Юрий Владимирович Макаров - Моя служба в Старой Гвардии. 1905–1917 Жанр: Биографии и Мемуары Год издания: 1951 |
 |
| Петр Кузьмич Мартьянов - Дела и люди века: Отрывки из старой записной книжки, статьи и заметки. Том 1 Жанр: Биографии и Мемуары Год издания: 1893 Серия: Дела и люди века |
 |
| Александр Пинхосович Подрабинек - Диссиденты Жанр: История: прочее Год издания: 2014 Серия: Мемуары – xx век |
Другие книги автора «Андрей Колесников»:
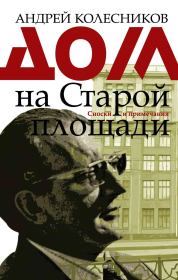 |
| Андрей Владимирович Колесников - Дом на Старой площади Жанр: Биографии и Мемуары Год издания: 2019 Серия: Мемуары – xx век |
 |
| Андрей Владимирович Колесников - Империя должна озвереть. «Военная операция» как кейс практического применения имперской идеологии Жанр: Публицистика Год издания: 2023 |
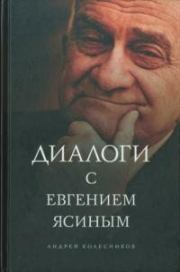 |
| Андрей Владимирович Колесников - Диалоги с Евгением Ясиным Жанр: Политика и дипломатия Год издания: 2014 |
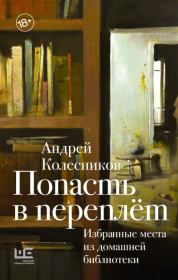 |
| Андрей Владимирович Колесников - Попасть в переплёт. Избранные места из домашней библиотеки Жанр: Биографии и Мемуары Год издания: 2023 Серия: Независимый текст |




