Телегин - мифологема
 | Название: | мифологема |
Автор: | Телегин | |
Жанр: | Литературоведение (Филология) | |
Изадано в серии: | неизвестно | |
Издательство: | неизвестно | |
Год издания: | 2010 | |
ISBN: | неизвестно | |
Отзывы: | Комментировать | |
Рейтинг: | ||
Поделись книгой с друзьями! Помощь сайту: донат на оплату сервера | ||
Краткое содержание книги "мифологема"
Аннотация к этой книге отсутствует.
Читаем онлайн "мифологема". [Страница - 3]
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- . . .
- последняя (225) »
Толысбаева
Семантика травных словообразов в казахстанской поэзии (от 1970-х к 2000-м гг.).... 261
О.В. Якунина
Мифологема брака в малой прозе Ю. Мамлеева .............................................................. 268
Г.С. Белолипская
Восточная образность в анекдотах,
опубликованных на страницах астраханской газеты «Восточные известия» (1813) .... 273
Н.М. Байбатырова
Конфликт религиозной и светской идеологии
в турецкой литературе и публицистике ............................................................................. 281
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ.............................................................................................. 286
6
АРХЕТИП, МИФ И ПАМЯТЬ ЛИТЕРАТУРЫ
А.Ю. Большакова
Первоначально сформировавшись в философии, психологии и науке о мифе, понятие «архетип» стало завоевывать свои позиции в литературоведении, культурологии,
социологии, политологии, религиоведении и пр. Хотя, конечно, границы здесь весьма
условны: происходит постоянное их взаимопроникновение, что далеко не всегда способствует должному познанию предмета.
К примеру, нередко литературоведы подменяют представление о таком специфическом предмете, как «литературный архетип», концепцией его аналога в психологии.
Тогда исследователи художественного текста пользуются как бы раз и навсегда данным
юнговским набором архетипических моделей и подходов, вовсе не утруждая себя поиском и открытием каких-либо новых, сугубо литературных структур и особенностей.
Другой момент касается засилья в литературоведении мифопоэтических подходов к
проблеме архетипа, подменяющих собственно литературный анализ поиском архаичных элементов и основ. Все это неминуемо ведет к схематизации и формализации литературного анализа.
В отрицательном плане следует упомянуть и о распространенной тенденции подверстывать под термин «архетип» все и вся, что чревато размыванием границ понятия и
явления. Так, склонность к чересчур широким обобщениям проявляет себя в возникновении термина/понятия «русский национальный архетип», способного вместить в себя
любые представления об особенностях русского народа.
Впрочем, это весьма характерно для нынешних исследований архетипа, в которых присутствуют две постоянные ошибки или, скорее, переборы: излишнее обобщение, ведущее к неясности, аморфности, отсутствии четких очертаний изучаемого предмета1, и – излишняя детализация, подмена предмета исследования его частными проявлениями. Тогда под «архетип» может подверстываться то или иное классическое произведение (скажем, чеховские «Три сестры»), фольклорные персонажи (Иван-царевич
или Садко), знаковая вещь (игрушка или фетиш). Порой дело доходит до фарса, когда в
литературоведческих трудах появляются подобные обороты: «Как архетип может быть
рассмотрено и просто наличие бороды».
Однако, несмотря на все издержки, надо отметить значение современных исследований архетипа на грани общечеловеческого и национального (этнокультурного).
Особенно важно усилившееся сейчас стремление к постижению национального менталитета и его составляющих (национального характера, идеи, идентичности) через глубинные архетипы, укорененные в коллективном бессознательном и на поверку определяющие самодвижение народной жизни – наперекор всем навязываемым догмам и
нормативам. «Архетип» тогда выступает не как абстрактная величина, предмет отвлеченного теоретизирования, но как воплощение «коллективного опыта народа»2.
Именно такое значение «архетипа» определяет все нарастающее внимание к нему
в нынешний переходный период, тогда как во внешне стабильные советские десятилетия (в 1960–1980-х и ранее) исследований в данной сфере практически не проводилось.
Всплеск интереса к «архетипу» сейчас во многом вызван кризисностью национальной
идентичности и поисками путей ее восстановления. В задачи национального самопознания, культурной самоидентификации тогда входит «поиск себя» как обретение не1
Думается, именно поэтому «архетип» порой отвергается исследователями как нечто ненаучное, познаваемое лишь интуитивно.
2
Myths and Motifs in Literature. Ed. D. J. Burrows, F. R. Lapidus, J. T. Shawcross. N.Y., 1973. Р. 2.
7
коей точки опоры – на глубинные, базовые архетипы национального менталитета, коренящиеся в устойчивых протообразцах, первичных моделях развития.
Такое «возвращение к архетипам» в переломные, кризисные эпохи, чреватые утратой целостности, ломкой основных мировоззренческих универсалий, трудно переоценить. В противовес --">
Семантика травных словообразов в казахстанской поэзии (от 1970-х к 2000-м гг.).... 261
О.В. Якунина
Мифологема брака в малой прозе Ю. Мамлеева .............................................................. 268
Г.С. Белолипская
Восточная образность в анекдотах,
опубликованных на страницах астраханской газеты «Восточные известия» (1813) .... 273
Н.М. Байбатырова
Конфликт религиозной и светской идеологии
в турецкой литературе и публицистике ............................................................................. 281
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ.............................................................................................. 286
6
АРХЕТИП, МИФ И ПАМЯТЬ ЛИТЕРАТУРЫ
А.Ю. Большакова
Первоначально сформировавшись в философии, психологии и науке о мифе, понятие «архетип» стало завоевывать свои позиции в литературоведении, культурологии,
социологии, политологии, религиоведении и пр. Хотя, конечно, границы здесь весьма
условны: происходит постоянное их взаимопроникновение, что далеко не всегда способствует должному познанию предмета.
К примеру, нередко литературоведы подменяют представление о таком специфическом предмете, как «литературный архетип», концепцией его аналога в психологии.
Тогда исследователи художественного текста пользуются как бы раз и навсегда данным
юнговским набором архетипических моделей и подходов, вовсе не утруждая себя поиском и открытием каких-либо новых, сугубо литературных структур и особенностей.
Другой момент касается засилья в литературоведении мифопоэтических подходов к
проблеме архетипа, подменяющих собственно литературный анализ поиском архаичных элементов и основ. Все это неминуемо ведет к схематизации и формализации литературного анализа.
В отрицательном плане следует упомянуть и о распространенной тенденции подверстывать под термин «архетип» все и вся, что чревато размыванием границ понятия и
явления. Так, склонность к чересчур широким обобщениям проявляет себя в возникновении термина/понятия «русский национальный архетип», способного вместить в себя
любые представления об особенностях русского народа.
Впрочем, это весьма характерно для нынешних исследований архетипа, в которых присутствуют две постоянные ошибки или, скорее, переборы: излишнее обобщение, ведущее к неясности, аморфности, отсутствии четких очертаний изучаемого предмета1, и – излишняя детализация, подмена предмета исследования его частными проявлениями. Тогда под «архетип» может подверстываться то или иное классическое произведение (скажем, чеховские «Три сестры»), фольклорные персонажи (Иван-царевич
или Садко), знаковая вещь (игрушка или фетиш). Порой дело доходит до фарса, когда в
литературоведческих трудах появляются подобные обороты: «Как архетип может быть
рассмотрено и просто наличие бороды».
Однако, несмотря на все издержки, надо отметить значение современных исследований архетипа на грани общечеловеческого и национального (этнокультурного).
Особенно важно усилившееся сейчас стремление к постижению национального менталитета и его составляющих (национального характера, идеи, идентичности) через глубинные архетипы, укорененные в коллективном бессознательном и на поверку определяющие самодвижение народной жизни – наперекор всем навязываемым догмам и
нормативам. «Архетип» тогда выступает не как абстрактная величина, предмет отвлеченного теоретизирования, но как воплощение «коллективного опыта народа»2.
Именно такое значение «архетипа» определяет все нарастающее внимание к нему
в нынешний переходный период, тогда как во внешне стабильные советские десятилетия (в 1960–1980-х и ранее) исследований в данной сфере практически не проводилось.
Всплеск интереса к «архетипу» сейчас во многом вызван кризисностью национальной
идентичности и поисками путей ее восстановления. В задачи национального самопознания, культурной самоидентификации тогда входит «поиск себя» как обретение не1
Думается, именно поэтому «архетип» порой отвергается исследователями как нечто ненаучное, познаваемое лишь интуитивно.
2
Myths and Motifs in Literature. Ed. D. J. Burrows, F. R. Lapidus, J. T. Shawcross. N.Y., 1973. Р. 2.
7
коей точки опоры – на глубинные, базовые архетипы национального менталитета, коренящиеся в устойчивых протообразцах, первичных моделях развития.
Такое «возвращение к архетипам» в переломные, кризисные эпохи, чреватые утратой целостности, ломкой основных мировоззренческих универсалий, трудно переоценить. В противовес --">
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- . . .
- последняя (225) »
Книги схожие с «мифологема» по жанру, серии, автору или названию:
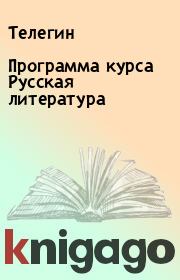 |
| Телегин - Программа курса Русская литература Жанр: Литературоведение (Филология) Год издания: 2005 |
 |
| Николай Иосифович Конрад - Очерки японской литературы Жанр: Литературоведение (Филология) Год издания: 1973 |
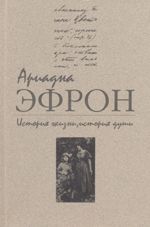 |
| Ариадна Сергеевна Эфрон - История жизни, история души. Том 2 Жанр: История: прочее Год издания: 2008 |
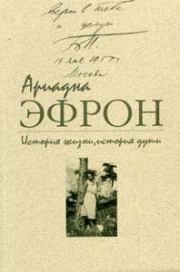 |
| Ариадна Сергеевна Эфрон - История жизни, история души. Том 3 Жанр: История: прочее Год издания: 2008 |
Другие книги автора « Телегин»:
 |
| Телегин - мифологема Жанр: Литературоведение (Филология) Год издания: 2010 |
 |
| Телегин - Мифопоэтика Жанр: Культурология и этнография Год издания: 2004 |
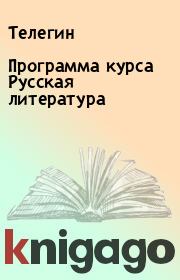 |
| Телегин - Программа курса Русская литература Жанр: Литературоведение (Филология) Год издания: 2005 |
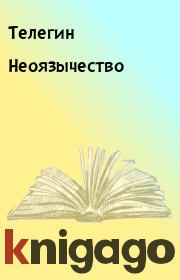 |
| Телегин - Неоязычество Жанр: Культурология и этнография Год издания: 2013 |



