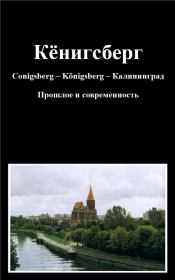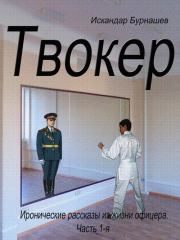Нина Елисеевна Меднис - Поэтика и семиотика русской литературы
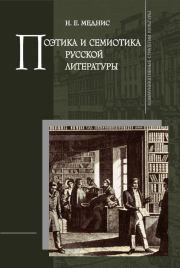 | Название: | Поэтика и семиотика русской литературы |
Автор: | Нина Елисеевна Меднис | |
Жанр: | Культурология и этнография, Языкознание | |
Изадано в серии: | Коммуникативные стратегии культуры | |
Издательство: | Языки славянской культуры | |
Год издания: | 2011 | |
ISBN: | 978-5-9551-0482-9 | |
Отзывы: | Комментировать | |
Рейтинг: | ||
Поделись книгой с друзьями! Помощь сайту: донат на оплату сервера | ||
Краткое содержание книги "Поэтика и семиотика русской литературы"
Книга объединяет работы, посвященные поэтике и семиотике русской классической литературы. Значительную часть составляют исследования творчества А. А. Пушкина, а также Ф. М. Достоевского, Ф. И. Тютчева и др. Самостоятельный раздел занимают работы о проблемах исследования сверхтекстов, о семиотике культуры и литературы.
Книга адресована специалистам в области истории и теории литературы, филологам, а также всем интересующимся русской классической литературой и русской культурой.
К этой книге применимы такие ключевые слова (теги) как: литературоведение,филология,семиотика,теория языка,теория литературы
Читаем онлайн "Поэтика и семиотика русской литературы" (ознакомительный отрывок). [Страница - 5]
Друзья Людмилы и Руслана!
С героем моего романа
Без предисловий, сей же час
Позвольте познакомить вас.
(VI, 5)
Оппозиция «вы» (читатели) – «я» (поэт) выражена через противопоставление двух произведений – поэмы «Руслан и Людмила» и романа «Евгений Онегин», двух периодов творчества поэта: прежде – сейчас, и оно может быть охарактеризовано словами Пушкина из заметки о Баратынском: «…лета идут, юный поэт мужает, талант его растет, понятия становятся выше, чувства изменяются. Песни его уже не те. А читатели те же» (курсив наш. – Н. М.).
Верность именно такого представления о читателе не замедлила подтвердиться. В письме к брату в начале февраля 1824 года поэт пишет о «Евгении Онегине»: «…это лучшее произведение мое. Не верь Н. Раевскому, который бранит его – он ожидал от меня романтизма, нашел сатиру и цинизм и порядочно не расчухал»[8].
С начала 20-х годов процесс расхождения поэта с читателями идет с нарастающей активностью и достигает апогея, отразившегося в стихотворениях «Поэт и толпа», «Поэту», «Из Пиндемонти» и других.
Логично предположить, что такое развитие отношений в системе «поэт – читатель» могло привести Пушкина к позиции, близкой Баратынскому:
И как нашел я друга в поколенье,
Читателя найду в потомстве я.
У Пушкина есть даже стихотворения, подтверждающие возможную близость к Баратынскому в решении этого вопроса. Яркий пример тому – пушкинский «Памятник». Однако в целом проблема «поэт – читатель» предстает у Пушкина совершенно иначе, чем у Баратынского. И в сложный для поэта период 30-х годов все творчество Пушкина диалогически обращено к читателю, временную и пространственную близость которого поэт остро ощущает. И чем глубже конфликт, тем активнее диалог-спор, тем настойчивее вводится в текст моделируемое слово читателя. Это одинаково интенсивно проявляется и в лирике, и в лиро-эпике, и в прозе.
Отвечая на вопрос о причинах данного явления, можно предложить следующее его объяснение: начиная с 20-х годов читатель существует для Пушкина в двух разных измерениях: 1) читатель реально-биографический – конкретные друзья и противники поэта, его современники; 2) читатель как художественная единица эстетического мира. Различие этих двух типов можно определить, пользуясь терминологией М. М. Бахтина, как различие «данного» и «созданного», эмпирической действительности и искусства. Проводя границу между читателем внетекстовым (1-й тип) и читателем текстово реализованным (2-й тип), должно, разумеется, помнить об их теснейшей связи: второй порождается первым. И вместе с тем, включаясь в структуру художественного текста, читатель проходит стадию обобщающей объективации, обретает определенное лицо и относительно устойчивые для всего творчества Пушкина мировоззренческие координаты, утрачивая одновременно конкретно-биографические признаки. Как видно из произведений, определенность художественно созданного читателя прочно связана у Пушкина с романтическим мироотношением. Поэтому бинарная оппозиция «автор – читатель», входя в систему «поэтическое – прозаическое», «романтическое – реалистическое», часто становится структурообразующим элементом произведения. Введение читателя в структуру произведения осуществляется по-разному. Наиболее отчетливы два варианта: 1) в тексте представлено в точном смысле слово читателя. Оно, как правило, не заключено в кавычки, но либо оговорено, либо непосредственно указано; 2) в тексте представлен развернутый знак читательского мира – маркированный образ, маркированная ситуация (художественные предикаты, атрибуты, мифемы, по терминологии З. Г. Минц)[9]. Эти знаки – представители мира читателя тоже включаются в активный диалог «поэт – читатель» и потому могут быть названы «словом» в широком его понимании.
Кроме того, присутствие читателя в тексте может быть эксплицитным или имплицитным.
Первый случай – слово явно присутствующего в тексте читателя – в лирике с наибольшей наглядностью --">Книги схожие с «Поэтика и семиотика русской литературы» по жанру, серии, автору или названию:
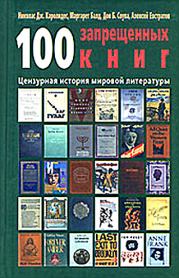 |
| Дон Б Соува, Николай Дж Каролидес, Маргарет Балд и др. - 100 запрещенных книг: цензурная история мировой литературы. Книга 1 Жанр: История: прочее Год издания: 2008 |
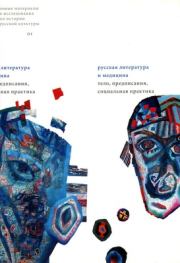 |
| Сабина Мертен - Поэтика медицины: от физиологии к психологии в раннем русском реализме Жанр: Культурология и этнография Год издания: 2006 Серия: Русская литература и медицина (сборник) |
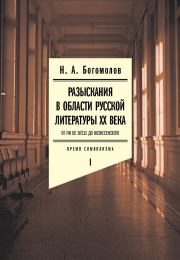 |
| Николай Алексеевич Богомолов - Разыскания в области русской литературы XX века. От fin de siècle до Вознесенского. Том 1. Время... Жанр: Культурология и этнография Год издания: 2021 Серия: Гуманитарное наследие |