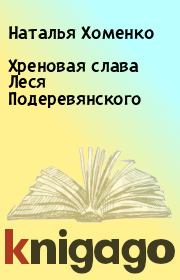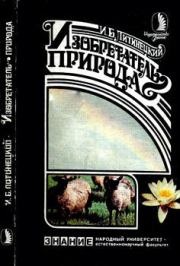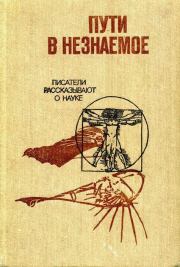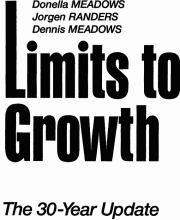Лидия Алексеевна Зайцева - Экранный образ времени оттепели (60–80-е годы)
litres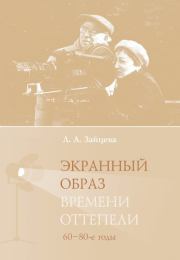 | Название: | Экранный образ времени оттепели (60–80-е годы) |
Автор: | Лидия Алексеевна Зайцева | |
Жанр: | Научная литература, Кино | |
Изадано в серии: | неизвестно | |
Издательство: | Нестор-История | |
Год издания: | 2017 | |
ISBN: | 978-5-4469-1151-6 | |
Отзывы: | Комментировать | |
Рейтинг: | ||
Поделись книгой с друзьями! Помощь сайту: донат на оплату сервера | ||
Краткое содержание книги "Экранный образ времени оттепели (60–80-е годы)"
Книга, написанная ярким, образным языком, содержит многогранную информацию о пути кинематографа длиною в двадцать лет. Глубокий анализ фильмов этого периода представляет интерес как для широкого круга читателей, так и для профессионалов: кинематографистов, литературоведов, театроведов, особенно студентов, обучающихся на факультетах гуманитарного профиля.
Автор благодарит за помощь в подготовке книги к печати начальника редакционно-издательского отдела ВГИК А. А. Петрову, ведущего редактора Т. Н. Исаеву, преподавателя кафедры киноведения ВГИК В. В. Марусенкова и отдельно Алексея Владиславовича Зайцева за активную роль в работе над изданием.
К этой книге применимы такие ключевые слова (теги) как: профессиональные секреты,киноискусство,история кино,киноиндустрия,киноведение
Читаем онлайн "Экранный образ времени оттепели (60–80-е годы)" (ознакомительный отрывок). [Страница - 4]
Перед нами явление удивительной слитности документального наблюдения за трудоёмким процессом создания конкретного предмета и – в отчётливо проступающем подтексте – рождения произведения искусства.
Подробности, детали тяжёлой физической работы, предметно-бытовая фактура производства колокола в то же время ни на секунду не отвлекают зрителя от понимания того, что на экране сотворяется акт созидательного труда, творческих мук художника, дарящего Руси, наверное, самое святое – счастье колокольного звона…
Что видит зритель? От стены спалённого дома стражники повезли мальчишку, обещавшего выплавить колокол.
Однако не менее важно ощутить в последовательности действия, в чередовании его бытовых компонентов ту внутреннюю художественную структуру, благодаря которой ряд будничных событий приобретает свойства поэтики авторской речи.
Вот как это выглядит:
Заканчивается сцена сватовства Дурочки (акт. И. Рауш).
Татарские конники увозят её с монастырского двора, радостно кричит глухонемая. Долго смотрит ей вслед Андрей Рублёв…
Именно здесь обрывается новелла «Молчание» и возникает название другой – «Колокол. 1423».
Буднично. Тихо. Вымершая деревня. И лишь один оставшийся в живых – Бориска (акт. Н. Бурляев) – просит взять его, чтобы отлить колокол.
Нехотя, скорей от усталости мотаться в седле, гонцы соглашаются…
И дальше – импульсивно движется событийный ряд. Бориска ищет место для ямы. Потом – глину. Торгуется с купцами и сотником. Закладывает форму, ведёт обжиг, командует подъёмом колокола.
Уходит и плачет под колокольный звон…
Вся эта рабочая суета происходит в кадре. Но что любопытно: Бориска не просто пытается отыскать яму, он роет её вместе с землекопами. Как одержимый, ищет какую-то особенную глину, когда старые литейщики уже устали от поисков. Под проливным дождём, сорвавшись с обрыва, радостно орёт: «Нашёл!» И его сумасшедшее «Эврика!» слышит с противоположного берега один лишь Андрей Рублёв:
«На телеге, нагруженной корзинами с капустой, сидит Андрей. Останавливает лошадь и подходит к обрыву. По ту сторону реки Бориска»[3].
Зачем же понадобилось автору именно Андрея сделать единственным свидетелем везения, счастья этого валяющегося в грязи мальчишки? Случайна ли встреча молчаливого Андрея и радостно орущего «колокольных дел мастера»?.. Нас снова погружают в работу, в её напряжённый ритм. На дне ямы отчаянно мечется Бориска. И вдруг, как бы мимоходом, обращаясь прямо к Андрею: «Пусти, отец, прибьют тебя здесь. Зашибут». А потом сразу опять на истошный крик: «Без меня не вкапывайте!»[4]
Откуда же у мальчишки такая осторожная бережность к этому стоящему поодаль монаху, ведь он то и дело кричит на своих помощников, требует почти невозможного, изматывает себя?..
…Работа. Взвинченный темп. Бориска срывается, велит выпороть подручного. Сам ложится на солому – чуть передохнуть. И здесь опять: «Ну что, что смотришь, а? Что, язык проглотил? Или оглох? (Слышны крики, плач провинившегося.) Что, жалко? Иди, иди, пожалей, на то ты и чернец…»[5].
Так трижды, рефреном, в экспрессивно построенных сценах работы повторяется встреча Андрея и Бориски. Она начинает обретать какой-то свой внутренний смысл, уже читаемый. И тогда впервые вводится большой эпизод – не событий вокруг колокола, а дороги под проливным дождём.
…Бегут трое. Музыка. Под деревом остановились Андрей, Даниил, Кирилл. Сливается в сплошную пелену проливной дождь. Начинается обжиг. Потом залив формы.
«Бориска (тяжело дышит): „Господи, помоги! Пронеси!“
У печей работают литейщики.
Смотрит Андрей Рублёв.
(Гул печей)»[6].
(«Ава, Отче, / Чашу эту мимо пронеси…», «Гамлет». Эти строки Б. Пастернака истово произносил со сцены Театра на Таганке В. Высоцкий.)
…Так постепенно тема Андрея встала в параллель с главным действием новеллы. Вот Рублёв смотрит в яму, где идёт обколка формы. Появляется колокол. Кто-то зовёт Бориску. Он отзывается глухо: «Сейчас, сейчас я…». И следующий кадр: «Андроников монастырь. Андрей ходит от костра к костру. Кирилл преследует его»[7].
Именно здесь происходит одна из самых главных для понимания замысла фильма и удивительная по своей экспрессивной --">Книги схожие с «Экранный образ времени оттепели (60–80-е годы)» по жанру, серии, автору или названию:
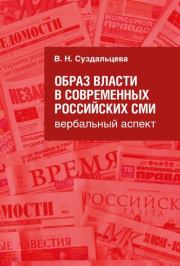 |
| В. Н. Суздальцева - Образ власти в современных российских СМИ. Вербальный аспект Жанр: Культурология и этнография Год издания: 2017 |

![Сказочки без границ [СИ]. Ирина Валерина](/i/67/436167/cover.jpg)