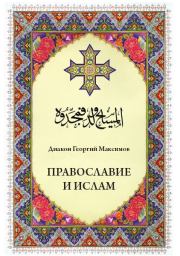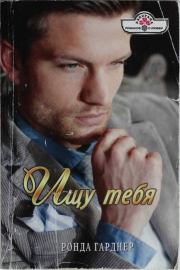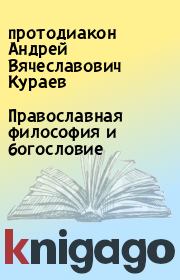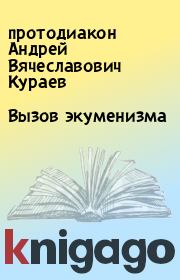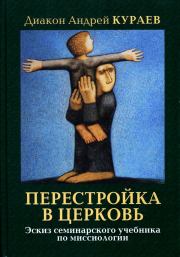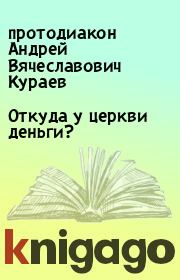протодиакон Андрей Вячеславович Кураев - Христианская философия и пантеизм
 | Название: | Христианская философия и пантеизм |
Автор: | протодиакон Андрей Вячеславович Кураев | |
Жанр: | Религиоведение | |
Изадано в серии: | неизвестно | |
Издательство: | неизвестно | |
Год издания: | - | |
ISBN: | неизвестно | |
Отзывы: | Комментировать | |
Рейтинг: | ||
Поделись книгой с друзьями! Помощь сайту: донат на оплату сервера | ||
Краткое содержание книги "Христианская философия и пантеизм"
Аннотация к этой книге отсутствует.
Читаем онлайн "Христианская философия и пантеизм" (ознакомительный отрывок). [Страница - 4]
Перемены происходят и проходят — личность остается. Личность оказывается не просто субъектом перемен. О личности можно сказать, что она есть внутренняя стяженность бытия. Это, — говоря философским языком, — трансцендентальное единство сознания.
Только потому человек и может войти в вечность, что его личность возвышается над любыми временными сочетаниями его природных характеристик. Но то, что соединяет воедино мгновения времени, само не может быть временем. "Диалектика гласит, что всякое становление вещи возможно только тогда, когда есть в ней нечто нестановящееся". Человек не сводится к своим состояниям, под ними есть некая трансцендентная (по отношению к самим временным переменам) подкладка.
Итак, то, что соединяет воедино мгновения времени, само не может быть временем. Очевидность этого хода мысли была ясна и для греков. И через поток времени переплывает не только человек, но и стул, на котором он сидит. Так что, у стула тоже трансцендентная подкладка? Н. О. Лосский, собственно, так и считал, приписывая личностное бытие даже атомам. В том-то и дело, что, как указывал о. Василий Зеньковский, "из факта наличности я во всяком переживании ничего нельзя извлечь для суждения о природе я". Значит, на этом пути своеобразие человеческой личности все же не выявить; так можно установить метафизичность каждой вещи, но как установить метавещность человека?
Раннехристианская мысль открыла новой простор для понимания слова ипостась тем, что… сузила область его употребления. Свт. Григорий Богослов и Боэций не обогатили понятие ипостаси; они лишь исключили приложение его вне сферы человека и Бога. По сути здесь чисто апофатическая, отрицательная работа. Об ипостаси кошки или табуретки стало невозможным говорить, и этот запрет и дал европейский персонализм, оградил "самостоянье человека" от засилья мира. Ясное же определение личности в православной традиции дано не было: скорее, она даже настаивает на принципиальной неопределимости личности: "сформулировать понятие личности человека мы не можем и должны удовлетвориться следующим: личность есть несводимость человека к природе. Именно несводимость, а не "нечто несводимое", потому что не может быть здесь речи о чем-то отличном, об "иной природе", но только о ком-то, кто отличен от своей собственной природы, ком-то, кто, содержа в себе свою природу, природу превосходит".
А далее оказалось, что именно слово ипостась несравненно удобнее для обозначения личности, нежели просопон или персона. Восточно-христианские богословы взяли как базовое слово ипостась, латинские писатели — слово персона. Проявившаяся в этом выборе разница между западным и восточным пониманием личности хорошо заметна из сопоставления двух дефиниций: "Людей, которые узнаются каждый благодаря определенным чертам (форма), латиняне стали называть "лица" (персона), а греки — "просопон", — определяет Боэций. "Именуемое собственно выражается речением ипостась", — пишет свт. Василий Великий. В определении Боэция речь идет о внешнем узнавании; персона, соответственно, описуема и выразима. Это то, что замечаемо, те конкретные и качественно-определенные черты, по которым человека можно узнать в толпе. Но для свт. Василия Великого ипостась — это имя. Имя не есть конкретная сущность или характеристика, имя есть указание, знак. Человек не носит на своем лице (просопоне) табличку со своим именем; имя есть указание на некий субъект, находящийся за пределами тех конкретных действий и черт, что мы видим сейчас.
Так, наделяя слово ипостась новыми смыслами, греческое богословие помнило и о его первоначальном звучании: ипостась-субстанция-подлежащее. Латинское персона есть "накладка", греческое ипостась, напротив — "подкладка". Лицо и ипостась не могут быть совсем одним и тем же хотя бы потому, что Библии чужда скульптурность античной эллинской культуры. В Библии лицо и сердце воспринимаются как антонимы: "человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце" (1 Цар. 16, 8). Значит, выбор позднеантичными богословами --">Книги схожие с «Христианская философия и пантеизм» по жанру, серии, автору или названию:
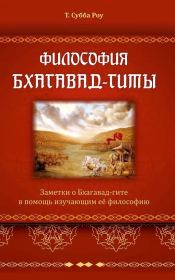 |
| Таллапраджада Субба Роу - Философия Бхагавад-Гиты Жанр: Религиоведение Год издания: 2020 |
Другие книги автора «протодиакон Андрей Кураев»:
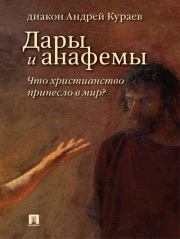 |
| протодиакон Андрей Вячеславович Кураев - Дары и анафемы. Что христианство принесло в мир? (5-е изд., перераб. и доп.) Жанр: Религиоведение Год издания: 2016 |
 |
| протодиакон Андрей Вячеславович Кураев - Вызов экуменизма Жанр: Христианство Год издания: 1998 |