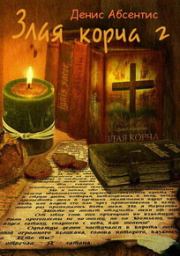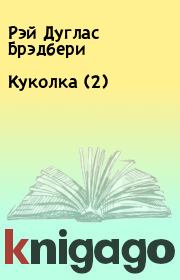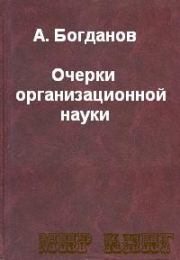Эвальд Васильевич Ильенков - Диалектическая логика. Очерки истории и теории.
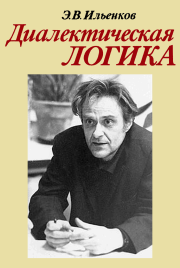 | Название: | Диалектическая логика. Очерки истории и теории. |
Автор: | Эвальд Васильевич Ильенков | |
Жанр: | Философия | |
Изадано в серии: | неизвестно | |
Издательство: | Политиздат | |
Год издания: | 1974 | |
ISBN: | неизвестно | |
Отзывы: | Комментировать | |
Рейтинг: | ||
Поделись книгой с друзьями! Помощь сайту: донат на оплату сервера | ||
Краткое содержание книги "Диалектическая логика. Очерки истории и теории."
Одной из важнейших задач советских философов по-прежнему остаётся завещанная В.И. Лениным разработка систематически развёрнутого изложения диалектики как логики и теории познания современного материализма. Определённым вкладом в решение этой проблемы явится новая книга доктора философских наук Э.В. Ильенкова. В ней излагаются результаты многолетних исследований автора в области истории формирования диалектической логики, рассматриваются существенные стороны марксистско-ленинской теории диалектики. Как и другие работы автора, книгу отличает содержательный анализ и доступное изложение самых сложных проблем философии.
Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся проблемами философии.
Текст приведён по изданию 1974 года (авторский). Издание 1984 года подверглось идеалистической редакторской правке и не рекомендуется к чтению.
К этой книге применимы такие ключевые слова (теги) как: Логика, диалектика, идеальное, материализм, Спиноза, Кант, Гегель, всеобщее
Читаем онлайн "Диалектическая логика. Очерки истории и теории.". [Страница - 3]
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- . . .
- последняя (123) »
Признание непригодности официальной, схоластически-формальной версии логики в качестве «органона» действительного мышления, развития научного знания – лейтмотив всей передовой философской мысли того времени. «Логика, которой теперь пользуются, скорее служит укреплению и сохранению заблуждений, имеющих своё основание в общепринятых понятиях, чем отысканию истины. Поэтому она более вредна, чем полезна»[3], – констатирует Фрэнсис Бэкон. «...В логике её силлогизмы и большая часть других её наставлений скорее помогают объяснять другим то, что нам известно, или даже, как в искусстве Луллия, бестолково рассуждать о том, чего не знаешь, вместо того чтобы изучать это»[4], – вторит ему Ренэ Декарт. Джон Локк полагает, что «силлогизм в лучшем случае есть лишь искусство вести борьбу при помощи того небольшого знания, какое есть у нас, не прибавляя к нему ничего»[5]. На этом основании Декарт и Локк считали необходимым отнести всю проблематику прежней логики в область риторики. Поскольку же логика сохраняется как особая наука, то она единодушно толкуется не как наука о мышлении, а как наука о правильном употреблении слов, имён, знаков. Гоббс, например, развивает концепцию логики как исчисления слов-знаков[6].
Подытоживая свой «Опыт о человеческом разуме», Локк так и определяет предмет и задачу логики: «Задача логики – рассмотреть природу знаков, которыми ум пользуется для понимания вещей или для передачи своего знания другим»[7]. Он толкует логику как «учение о знаках», как семиотику[8].
Но философия, по счастью, не застряла на таком представлении. Лучшие умы этой эпохи прекрасно понимали, что если логику трактовать в вышеописанном духе, то она явится чем угодно, но только не наукой о мышлении. Правда, представителей чисто механистического взгляда и на мир, и на мышление такое понимание логики в общем-то устраивало. Поскольку объективная реальность толковалась ими абстрактно-геометрически (т.е. единственно объективными и научными считались лишь чисто количественные характеристики), то принципы мышления в математическом естествознании сливались в их глазах с логическими принципами мышления вообще. Эта тенденция в законченной форме выступает у Гоббса.
Гораздо осторожнее подходят к делу Декарт и Лейбниц. Им также импонировала идея создания «всеобщей математики» вместо прежней, высмеянной и дискредитированной, логики. И они мечтали об учреждении «универсального языка», системы терминов, определённых строго и однозначно, а потому допускающих над собою чисто формальные операции.
Однако и Декарт, и Лейбниц, в отличие от Гоббса, прекрасно видели принципиальные трудности, стоявшие на пути осуществления этой идеи. Декарт понимал, что определения терминов в «универсальном языке» не могут быть продуктом полюбовного соглашения, а должны быть получены только в результате тщательного анализа простых идей, из которых, как из кирпичиков, складывается весь интеллектуальный мир людей; что сам точный язык «всеобщей математики» может быть лишь чем-то производным «от истинной философии». Только тогда удалось бы заменить мышление о вещах, данных в воображении (т.е., по тогдашней терминологии, в созерцании), вообще в реальном чувственно-предметном опыте людей, своего рода «исчислением терминов и утверждений» и сделать умозаключения столь же безошибочными, как и решения уравнений.
Присоединяясь в этом пункте к Декарту, Лейбниц категорически ограничивал область применения «всеобщей математики» лишь теми вещами, которые относятся к сфере действия «силы воображения». «Всеобщая математика» и должна представить, по его мысли, лишь, «так сказать, логику силы воображения». Но именно поэтому из её ведения исключаются как вся метафизика, так и «лишь рассудку соразмерные вещи, как мысль и действие, так и область обычной математики». Весьма существенное ограничение! Мышление, во всяком случае, здесь остаётся за пределами компетенции «всеобщей математики».
Не удивительно, что Лейбниц с нескрываемой иронией относился к чисто номиналистической трактовке --">- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- . . .
- последняя (123) »
Книги схожие с «Диалектическая логика. Очерки истории и теории.» по жанру, серии, автору или названию:
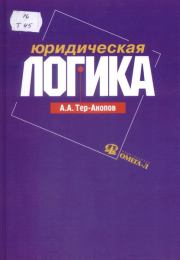 |
| Аркадий Авакович Тер-Акопов - Юридическая логика Жанр: Философия Год издания: 2002 |
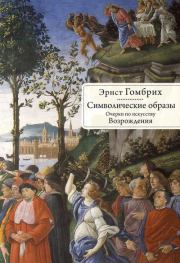 |
| Эрнст Ганс Гомбрих - Символические образы. Очерки по искусству Возрождения Жанр: История: прочее Год издания: 2020 |
Другие книги автора «Эвальд Ильенков»:
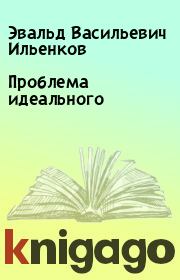 |
| Эвальд Васильевич Ильенков - Проблема идеального Жанр: Публицистика Год издания: 1979 Серия: Статьи в журналах |
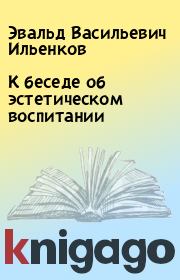 |
| Эвальд Васильевич Ильенков - К беседе об эстетическом воспитании Жанр: Философия Год издания: 1974 |
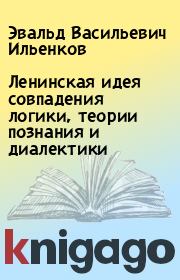 |
| Эвальд Васильевич Ильенков - Ленинская идея совпадения логики, теории познания и диалектики Жанр: Философия Год издания: 1974 Серия: Главы и статьи в книгах |