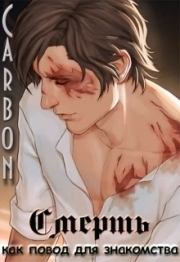Зиновий Зиник - Эмиграция как литературный прием
 | Название: | Эмиграция как литературный прием |
Автор: | Зиновий Зиник | |
Жанр: | Современная проза | |
Изадано в серии: | неизвестно | |
Издательство: | Новое литературное обозрение | |
Год издания: | 2011 | |
ISBN: | 978-5-86793-865-9 | |
Отзывы: | Комментировать | |
Рейтинг: | ||
Поделись книгой с друзьями! Помощь сайту: донат на оплату сервера | ||
Краткое содержание книги "Эмиграция как литературный прием"
Уехав из Советского Союза в 1975 году, Зиновий Зиник смог снова побывать в России лишь пятнадцать лет спустя. За три десятка лет жизни в Англии Зиник опубликовал семь романов и три сборника рассказов, переведенных на разные языки мира, завоевав прочную писательскую репутацию как среди британских, так и среди российских читателей. В этом сборнике эссе (с конца 70-х годов до недавнего времени) читатель найдет не только подробный и увлекательный анализ литературной ситуации вне России — от эпохи железного занавеса до наших дней открытых границ, но и мемуарные отчеты о личных встречах Зиника со старыми московскими друзьями на новой территории и с такими классическими именами двадцатого столетия, как Энтони Бёрджесс и Фрэнсис Бэкон, о полемических столкновениях с семейством Набоковых и об идеологической конфронтации с Салманом Рушди. Эта книга — о диалектике отношений писателя вне родины с другой культурой.
Читаем онлайн "Эмиграция как литературный прием". [Страница - 3]
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- . . .
- последняя (150) »
Это единство стало давать трещину, когда однажды я, идя с бабушкой на базар, увидел в канаве пьяного человека в торжественно черном пиджаке и при галстуке. Хотя пиджак был грязный, но лицо было знакомым. Человек храпел, он был вусмерть пьян. «Почему у дяди знакомое лицо?» спросил я бабушку. «Кто ж его знает», сказала бабушка. «Это же Стаханов», сказала она. Может быть, это был не тот самый Стаханов. Может быть, этот человек был одним из стахановцев: он перевыполнял в сто раз свою собственную норму — на этот раз норму выпивки. Я помнил это лицо по фотографиям в газете «Правда», из которой мы сворачивали самокрутки. Портрет в «Правде» никак не увязывался с лицом человека в канаве. Я тогда стал догадываться, что в газете можно найти одно, а в действительности другое, хотя это — одно и то же лицо. Лицо было тем же, но оно перемещалось, переходя из канавы в «Правду» и обратно. В этом выводе, наверное, и есть начало литературы и конец гармоничного отношения к действительности, в данном случае к советской. С этой догадкой о странном противоречии и несовпадении фактов и образов я и жил, как и все подростки моего поколения; наверное, никогда и не вспомнил бы об этом, если бы не повстречался, как и все мы, со старшим другом.
Смерть Сталина эпохальна для моего поколения тем, что впервые в истории советской власти из тюрем и лагерей возвратились люди, которым позволили говорить о том, что с ними произошло на этом советском свете. Впервые на улицах Москвы появилось племя людей, которое не только не было поголовно уничтожено — оно еще и не держало язык за зубами. Эти люди, в отличие от людей других эпох и в отличие от других уцелевших, не вели себя как подследственные, рассаженные по разным камерам для предотвращения сговора. Этот сговор и произошел: между ними и юношами моего поколения — которое ни тюрем, ни лагерей не знало. Или не подозревало об их существовании, или спокойно считало, что там гниют враги народа, в канаве, на обочине столбовой дороги к светлому будущему. Ведь мы были первым поколением, которое воспринимало советскую власть не как режим, не как навязанный историей диктат революционных вождей, но как данность: ужасы революционного террора, коллективизации, сталинских чисток воспринимались как временные трудности в прошлом. Ко времени моего, послевоенного, поколения советское государство уже было окончательно и бесповоротно построено. Никого, а тем более подростка, не интересуют трудности, испытанные кем-то и когда-то в прошлом. Эти трудности разве что утомляли в школе: будучи совершенно лояльными пионерами и комсомольцами, мы, тем не менее, скрипя зубами заучивали партийные выводы довоенных съездов про левый уклонизм и правый ревизионизм. Нам было наплевать. У нас не было личных счетов с этим государством. Конечно, и мы искали шпионов в эпоху шпиономании, а когда таковые не находились, подозревали шпионов в себе. Поскольку сам я шпиона не нашел, вывод, точно помню, был один: я сам однажды окажусь предателем родины. Это чувство, опять же, аналогично чувству вины, скажем, у школьников-католиков — только вместо католической мессы мое чувство вины подогревалось советским радио и газетами. Потом этот страх о будущей шпионской карьере прошел. Кто бы мог подумать, что идея эмиграции, то есть с точки зрения партии, предательство родины, зародилась во мне в конечном счете благодаря Сталину. Но это все подсознательно.
Умом же и сердцем я ощущал себя или никем, или сразу всем советским народом в том новом мире, где тот, кто был никем, стал всем. Я был и никем и всем одновременно. Это уникальное чувство цельности мироощущения и было подорвано смертью Сталина, точнее, поколением вернувшихся с того, сталинского, света; избежавших казни, но завязанных в советской истории по уши. Они-то и объяснили, что почем и что к чему, и очень точно. Они объяснили, почему все крайне тошно. Выяснилось, что советский бравый новый мир в действительности --">- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- . . .
- последняя (150) »
Книги схожие с «Эмиграция как литературный прием» по жанру, серии, автору или названию:
 |
| Инна Карташевская - Ибо сильна, как смерть, любовь… Жанр: Современная проза Год издания: 2013 |
 |
| Саша Тумп - Наш друг Димка Жанр: Современная проза Год издания: 2012 |
Другие книги автора «Зиновий Зиник»:
 |
| Зиновий Зиник, Борис Юльевич Кагарлицкий, Ревекка Марковна Фрумкина и др. - Критическая Масса, 2006, № 1 Жанр: Критика |
 |
| Зиновий Зиник - Русская служба и другие истории Жанр: Современная проза Год издания: 1993 |
 |
| Зиновий Зиник - Ермолка под тюрбаном Жанр: Публицистика Год издания: 2018 |