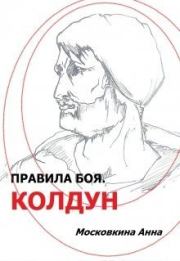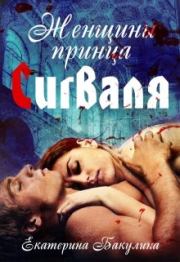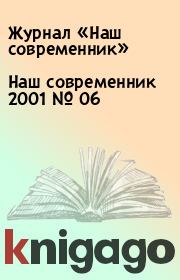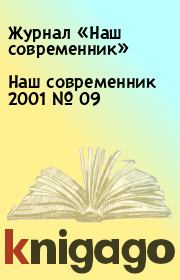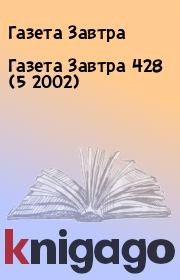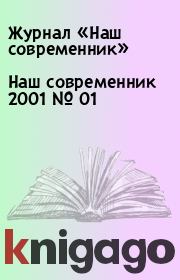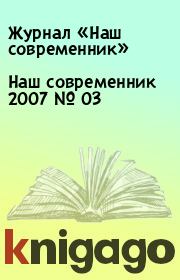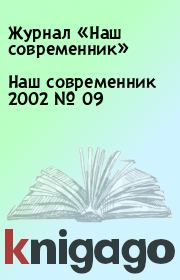Журнал «Наш современник» - Наш современник 2002 № 03
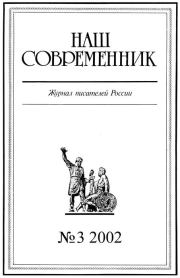 | Название: | Наш современник 2002 № 03 |
Автор: | Журнал «Наш современник» | |
Жанр: | Публицистика, Газеты и журналы | |
Изадано в серии: | неизвестно | |
Издательство: | неизвестно | |
Год издания: | 2002 | |
ISBN: | неизвестно | |
Отзывы: | Комментировать | |
Рейтинг: | ||
Поделись книгой с друзьями! Помощь сайту: донат на оплату сервера | ||
Краткое содержание книги "Наш современник 2002 № 03"
Аннотация к этой книге отсутствует.
Читаем онлайн "Наш современник 2002 № 03". [Страница - 3]
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- . . .
- последняя (126) »
Таким образом, перемены в «молодогвардейской» редколлегии в какой-то мере были, можно сказать, маленьким идеологическим 1937 годом, когда журналу с его новым, русским направлением предстояло очиститься от чуждых ему элементов в преддверии решающих событий «холодной войны», которая на этот раз окончилась для нас поражением.
Все происходившее в стране в идеологии подводило к черте, за которой должны были реально определиться противостоящие силы. Официальная идеология с ее «пролетарским интернационализмом», в сущности, оборачивалась космополитизмом, потворствовала русофобии во всех ее видах под предлогом борьбы с «русским шовинизмом». Естественно, все это не могло не вызывать противодействия в русской патриотической среде. Однако в этом противодействии не хватало главного — деятельного примера, поступка, которым обычно дается толчок общественному движению. И человеком такого поступка стал Анатолий Никонов. Другие редакторы тогдашних журналов с репутацией патриотических были совсем в другом положении, чем Никонов. У тех был свой, и не только писательский тыл: они были не просто писатели, а секретари Союза, лауреаты Государственных премий, депутаты и т. п., с прочными связями в «верхах».
Анатолий Никонов, повторяю, находился в ином положении, чем редакторы — известные писатели, он был всего лишь номенклатурный комсомольский работник, служба для него — это его настоящее и будущее, и многие ли на его месте решились бы рисковать карьерой, своим благополучием? Но он не юлил в опасных для журнала обстоятельствах, не перекладывал вины на сотрудника или автора статьи, а брал всю ответственность на себя и оставался верным выбранному направлению. Историк по образованию, он любил литературу и разбирался в ней, особенно пристрастным был, как участник войны, — к литературе о ней. «Какую вещь мы получили!» — ходил он довольный, потирая руки, когда прочитал рукопись В. Курочкина «На войне как на войне». С чутьем духовно здорового русского человека он, читая ту или иную публикуемую в журнале вещь, смотрел на нее крупно, цельно, не цепляясь за отдельные фразы, не навязывая автору своих взглядов. Вижу его сейчас как живого в кабинете за столом: нагнув голову, он сосредоточенно читает, строку за строкой, и когда заканчивает чтение, смотрит на меня с хитринкой: «Как это ты обошелся на этот раз без старушек?» (Русские старушки были постоянными персонажами моих статей в шестидесятые годы, да и позже.)
Анатолий Никонов, как в гораздо большей степени общественный деятель, политик, чем мы, литераторы, объемнее, реальнее, современнее понимал народность, был чужд нашим литературным увлечениям крестьянской Россией. То же самое — и «национальный вопрос». Я помню, как в разговоре со мной на эту тему он спокойно и уверенно говорил, как одним нам, русским, без других народов будет трудно в случае войны — тогда, в период военного конфликта на Даманском, была реальной для нас угроза со стороны великого азиатского соседа.
Или взять «дружбу народов». Как-то я принес Анатолию Васильевичу изданную на русском языке в конце 50-х годов в Тбилиси книгу В. Татишвили «Грузины в Москве. Исторический очерк (1653–1722)» и показал то место, где говорится о гибели в Донском монастыре пантеона грузинских культурных и политических деятелей XVII–XVIII веков. Видимо, и до этого Никонов знал о судьбе этих грузинских захоронений. Перелистав книгу, он сказал, что ему стыдно перед грузинами, как будто и сам он в чем-то виноват.
Такой поворот разговора удивил меня, но это было в характере Никонова. Для него дружба народов была не пустой демагогической фразой, а голосом совести, действительно братством не на словах, а на деле. Журнал «Молодая гвардия» подвергался постоянной травле за «отход от пролетарского интернационализма», а ведь именно этот журнал, его главный редактор и делали конкретные дела на ниве дружеских национальных связей. Никонов «нашел» в Абхазии Пачулия, создателя первого в Союзе общества по охране культуры. «Молодая гвардия» стала трибуной для --">- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- . . .
- последняя (126) »
Книги схожие с «Наш современник 2002 № 03» по жанру, серии, автору или названию:
Другие книги автора «Журнал «Наш современник»»:
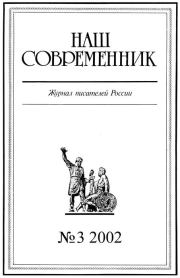 |
| Журнал «Наш современник» - Наш современник 2002 № 03 Жанр: Публицистика Год издания: 2002 |