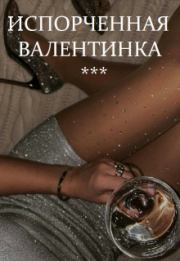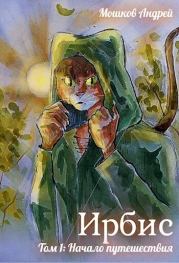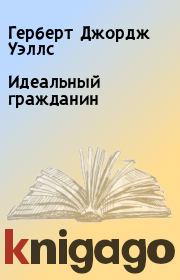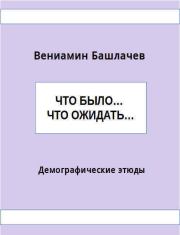Юрий Иосифович Колкер - Поэт с эпитетом, или вносим череп командора
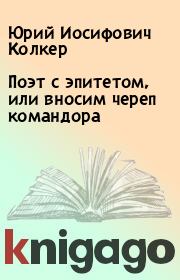 | Название: | Поэт с эпитетом, или вносим череп командора |
Автор: | Юрий Иосифович Колкер | |
Жанр: | Публицистика | |
Изадано в серии: | неизвестно | |
Издательство: | журнал КОНТИНЕНТ (Москва) №4 (146), 2010. | |
Год издания: | 2010 | |
ISBN: | неизвестно | |
Отзывы: | Комментировать | |
Рейтинг: | ||
Поделись книгой с друзьями! Помощь сайту: донат на оплату сервера | ||
Краткое содержание книги "Поэт с эпитетом, или вносим череп командора"
Аннотация к этой книге отсутствует.
Читаем онлайн "Поэт с эпитетом, или вносим череп командора". [Страница - 2]
- 1
- 2
- 3
- 4
- . . .
- последняя (8) »
«СЕМИДЕСЯТЫЕ, ПРОКЛЯТЫЕ»
Так называемые годы застоя — пробный камень на подлинность. Дышать стало нечем. Россия сделалась чуланом, Москва — бедламом. Одни кинулись фиглярствовать на подмостках, другие угодничать, третьи — мы о них никогда не узнаем — погибли (ибо это ведь факт, что талант поэта и талант выживания не всегда совпадают). Фиглярствовавшие мéста своего не понимали — и теперь особенно смешны. Они по сей день вздыхают ямбом: «литературой мы дышали» (что неправда, дешевой фрондой вы дышали), присурдинивают строку с нестерпимо пошлой рифмой «поговорить о Мандельштаме» — и обыватель кипятком писает, воображая, что это и есть поэзия.
Самойлов прошел между Симплегадами, повредив корму. Уцелел. Не вовсе отстранился от скоморохов; на эстраду с ними выходил, дружбой не брезговал, но в том гадюшнике, куда судьба его бросила, и деваться особенно было некуда; среда обязывала. В главном — уберегся: писал с голоса, не на голос; уроков декламации не брал. Искал себя. В юности увлекался Мандельштамом, но в итоге выработал правило, в котором, соглашаясь с классиком, тут же возражает ему:
Поэзия должна быть странной,
Шальной, бессмысленной, туманной
И вместе ясной, как стекло,
И всем понятной, как тепло…
Тут видна уступка дурному климату с плохим центральным отоплением. Чухонцев и Кушнер подписались бы под этой программой. Они тоже приняли подлую власть как данность, отрицали ее не лозунгами, а тайной свободой. Однако ж можно взглянуть и так: вторая часть программы Самойлова — пушкинская. Поэзия, что и говорить, есть Бог в святых мечтах земли, но разве существует такой климат, в котором поэту позволительно вовсе забыть о читателе? Стихи несут в себе надежду на отклик. Забыть о читателе значит перестать быть поэтом; не знать о читателе значит поэтом не стать, что мы и видим под всеми широтами. Ловкачи, надоумленные Уитменом, доискиваются только имени поэта, продадут за это имя мать и отца — и откровенно пишут в обход читателя, прямо для доцентов от литературы.
В 1970 году вышла книжка Самойлова Дни. В ее названии, что уже приятно, преодолен ходульный шаблон — осточертевший, ставший прямо бедствием двучлен какое-что. Девяносто процентов названий стихотворных сборников устроено так: определение, за ним определяемое слово (Таврический сад, Утренний снег, Теплая земля, Песочные часы и т. п). От этой пустоватой многозначительности скулы сводит. Старшие помнят, каким живительным бризом повеяло на минуту от названия Конец прекрасной эпохи, но сейчас и оно недалеко отстоит от канонического квадратного двучлена — только тем и живо, что трехчлен, потому что нечетное число слов в названии — уже рукопожатие и надежда… Не то чтоб словечко дни было такой уж находкой, нет; невольно спрашиваешь себя: а труды-то куды подевались? Но всё-таки это название работало: своею краткостью и непритязательностью. Название, среди прочего, должно еще и то уметь выразить, что дело — не в названии.
Первое же стихотворение книги — несомненная удача:
Давай поедем в город,
Где мы с тобой бывали.
Года, как чемоданы,
Оставим на вокзале.
Года пускай хранятся,
А нам храниться поздно.
Нам будет чуть печально,
Но бодро и морозно. (…)
О, как я поздно понял,
Зачем я существую!
Зачем гоняет сердце
По жилам кровь живую.
И что порой напрасно
Давал страстям улечься!..
И что нельзя беречься,
И что нельзя беречься…
Просто и подлинно, не правда ли? --">
- 1
- 2
- 3
- 4
- . . .
- последняя (8) »
Книги схожие с «Поэт с эпитетом, или вносим череп командора» по жанру, серии, автору или названию:
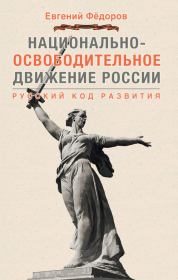 |
| Евгений Алексеевич Фёдоров - Национально-освободительное движение России. Русский код развития Жанр: Политика и дипломатия Год издания: 2014 |
Другие книги автора «Юрий Колкер»:
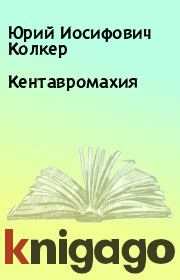 |
| Юрий Иосифович Колкер - Кентавромахия Жанр: Поэзия Год издания: 1982 |
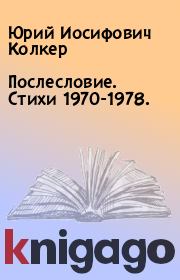 |
| Юрий Иосифович Колкер - Послесловие. Стихи 1970-1978. Жанр: Поэзия Год издания: 1985 |
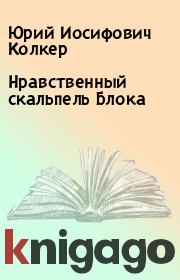 |
| Юрий Иосифович Колкер - Нравственный скальпель Блока Жанр: Публицистика Год издания: 2012 |
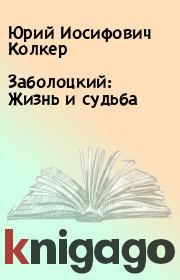 |
| Юрий Иосифович Колкер - Заболоцкий: Жизнь и судьба Жанр: Биографии и Мемуары Год издания: 2003 |