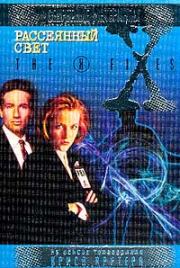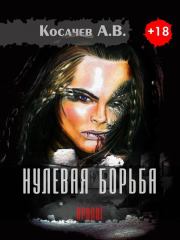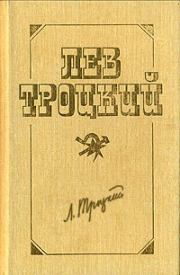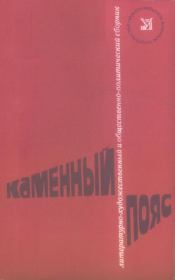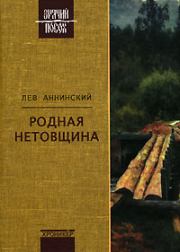Лев Александрович Аннинский - Ядро ореха. Распад ядра
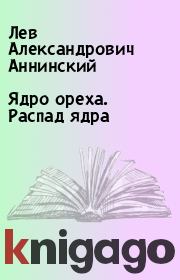 | Название: | Ядро ореха. Распад ядра |
Автор: | Лев Александрович Аннинский | |
Жанр: | Публицистика | |
Изадано в серии: | неизвестно | |
Издательство: | неизвестно | |
Год издания: | - | |
ISBN: | неизвестно | |
Отзывы: | Комментировать | |
Рейтинг: | ||
Поделись книгой с друзьями! Помощь сайту: донат на оплату сервера | ||
Краткое содержание книги "Ядро ореха. Распад ядра"
В этом томе собраны статьи о первом послевоенном поколении. Оно ощутило себя как нечто целостное на рубеже 60-х годов и вследствие этого получило довольно нелепое имя: «шестидесятники». Я искал других определений: «послевоенные мечтатели», «последние идеалисты», «дети тишины», «книжники» т. д., - но ничего удовлетворительного не нашел и решил пользоваться прилипшим к поколению ярлыком «шестидесятников». Статьи писались в 1959–1963 годах и составили книгу «Ядро ореха», которая, после некоторых издательских мучений, вышла в 1965 году; в настоящем томе она составляет первый раздел.
Второй раздел — «Раскрутка» — статьи, не вошедшие в «Ядро ореха» или написанные вдогон книге в 1964–1969 годах; тогда мне казалось, что «молодая литература» еще жива: я надеялся собрать эти статьи в новую книгу. К началу 70-х годов стало ясно, что «поколение» распалось, и стимул исчез.
Тогда я стал писать статьи совершенно другого тона, пытаясь понять, что с нами будет. Они вошли в третий раздел: «Расщепление».
«Разлет» — это уже когда стало ясно, что с нами происходит.
«Полюса» — наиболее ярко и последовательно воплотившиеся писательские судьбы в эпоху подступающего распада Целого.
«Траектории» — это статьи, где прослеживаются расходящиеся пути некогда единого писательского поколения.
И, наконец, «Следы» — скорее в том смысле, в каком это слово понимают физики-экспериментаторы — «теноры ХХ века», герои моей молодости, чем в смысле охотничьем, — статьи, написанные по долгим следам героев «Ядра ореха»; создавались они в то время, когда в глазах поколений, пришедших следом, «шестидесятники» стали уже почти посмешищем.
Читаем онлайн "Ядро ореха. Распад ядра". [Страница - 4]
Что теперь кажется мне существенным — «Коллеги» рационалистичны от головы до пят. Образы в повести построены по дедуктивному принципу: не от фактов к характерам, а наоборот: от заданной позиции в диспуте, от маски, от типажа к подтверждающим фактам биографий. Внешний облик трех товарищей — лишь простейший литературный эквивалент их позиции в диспуте: романтик Зеленин — бледность, худоба, очки; скептик Максимов — лицо усталого боксера; жизнелюб Карпов — галстук, чубчик. Три друга — по сути своей — три ипостаси одного божества, а не три самостоятельные личности. И в том, что Максимов излечился от скептицизма, а Зеленин укрепился в своем романтическом отношении к жизни, был лишь тот реальный смысл, что сам автор решил отказаться от своих тайных сомнений. Диспут увенчала благородная мысль о «цепочке»; осознанной трудовой связи всех людей на земле. Эта мысль завершила здание повести, построенной как бы в виде пирамиды: от публицистической вершины идут к жизненному материалу последовательные перепады — три друга, как три грани этой вершины, затем — мир единомышленников, спутников, затем — еще ниже — мир оппонентов и, наконец, основание пирамиды, мир реальных трудностей, обстоятельств, путаница жизни. Триединый герой окрашивает сверху своим воображением все, что может. Единомышленники и оппоненты с первых строк втягиваются в непрерывный, озорной словесный турнир. «Идите, сынки, идите», — хихикает в порту боец охраны и вдруг отпускает шуточку вполне в духе общежитейских парадоксов Максимова: «Протрясетесь как следует, аппетит будет отменный, правда, жрать-то там нечего…» Персонажи второго, третьего плана важны автору в той мере, в какой они участвуют в диспуте; все, что не относится к диспуту, всякие там портреты-костюмы даны откровенно трафаретной скорописью:
«стройная девушка в синем свитере» (фигура, потом одежда), «высокий молодой человек в синей тужурке», «высокий сухой старик в морском кителе» и т. п. Как крайнее воплощение отрицательности появляется в повести бандит Бугров, существо омерзительное, темное, не поддающееся разумным меркам. Автор все же пытается объяснить Бугрова рационально. Бугров, знаете, сирота. Бабка у него — «известная травница, богатющая ведьма». Объяснив себе бандита таким способом, автор успокаивается, не отрицая при этом, разумеется, и принципиальной возможности Федькиного перевоспитания — помещенная рядом с ним фигура перековывающегося вора Ибрагима обозначает эту оптимистическую возможность.
К вопросу о метафизике. Все, что не поддается объяснению с этих светлых позиций, все, что не укладывается в максимовские «крестики и нолики», весь неразумный и злокозненный хаос, как правило, оборачивается в исповедальной прозе бесхитростным метафизическим злом. Таким метафизическим злом был утонченный городской стиляга у Кузнецова; обывательница-тетка у Ставского; деревенский бандит у Аксенова…
Впрочем, и с ним в конце концов справились. Следя за сугубо динамическими событиями финала (погоня, схватка, убийство Саши и его воскресение на операционном столе, приезд друзей и счастливый конец), мы конечно же простили Аксенову этот легкий налет литературщины — заряд романтизма был слишком силен и прекрасен, — естественно, что кое-где лирический герой дорисовал события своим воображением. И может быть, только любовь (даже восторженные рецензенты остались недовольны любовными конфликтами «Коллег», и они были правы) — любовь намекала на непрочность найденной стройной системы: тесновато было любви в прямых, хорошо освещенных коридорах конструктивного здания --">Книги схожие с «Ядро ореха. Распад ядра» по жанру, серии, автору или названию:
 |
| Федор Михайлович Достоевский - Запад против России Жанр: Публицистика Год издания: 2014 |
Другие книги автора «Лев Аннинский»:
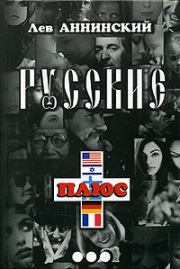 |
| Лев Александрович Аннинский - Русские плюс... Жанр: Публицистика Год издания: 2001 |
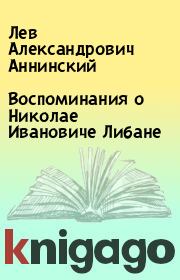 |
| Лев Александрович Аннинский, Николай Иванович Либан - Воспоминания о Николае Ивановиче Либане Жанр: Биографии и Мемуары Год издания: 2010 |
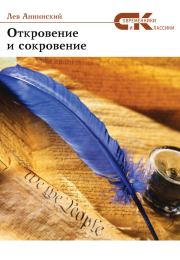 |
| Лев Александрович Аннинский - Откровение и сокровение Жанр: Языкознание Год издания: 2015 Серия: Современники и классики |