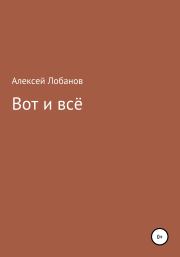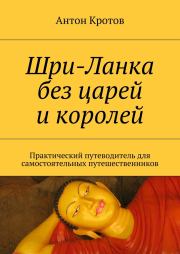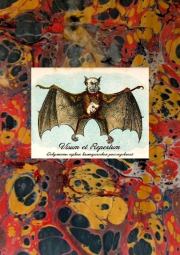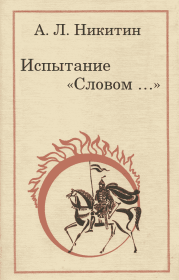Андрей Леонидович Никитин - Половецкая Русь
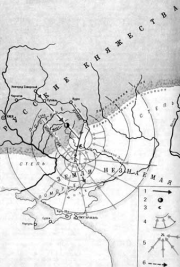 | Название: | Половецкая Русь |
Автор: | Андрей Леонидович Никитин | |
Жанр: | История: прочее | |
Изадано в серии: | неизвестно | |
Издательство: | неизвестно | |
Год издания: | - | |
ISBN: | неизвестно | |
Отзывы: | Комментировать | |
Рейтинг: | ||
Поделись книгой с друзьями! Помощь сайту: донат на оплату сервера | ||
Краткое содержание книги "Половецкая Русь"
Аннотация к этой книге отсутствует.
Читаем онлайн "Половецкая Русь". [Страница - 15]
По-видимому, самым серьезным изменениям "Слово…" подверглось после Куликовской битвы, будучи инспирированным ею. Для читателей и слушателей конца XII века факт пленения русских князей половцами не представлял трагедии, поскольку надо всем главенствовал счастливый конец. После 1237-1238 годов такой взгляд был невозможен, хотя в массе своей ордынское войско состояло из половцев-кипчаков. Не случайно в "Сказании о Мамаевом побоище" Дмитрий (Донской) для выяснения замыслов Мамая снабжает посольство к нему толмачами, знающими "язык половецкий". Таким образом, действительные антиполовецкие настроения на Руси следует датировать не столько XI-XII, сколько XIII-XV веками, почему переработчик "Слова…" и обращался задним числом к русским князьям XII века со словами: "Дон ти, княже, кличет, зовет князи на победу!". В этом плане можно считать безусловной удачей, что после такой кардинальной переработки "Слово…" все-таки сохранило свою первоначальную концовку, где "слава" возглашается персонально Владимиру Игоревичу. Это и был тот первый и главный итог поэмы, логическое завершение событий 1185 года, когда истинным героем оказывался не воин, а молодожен, скрепивший своим браком союз Руси и Степи.
Если поразмыслить, в условиях кровавой феодальной усобицы, в условиях религиозной и национальной розни, подогреваемых на Руси византийским императором и константинопольской Церковью, для которых половцы неизменно были врагами и "погаными", подобный призыв к миру и дружбе народов становился актом высокого героизма и подлинного патриотизма. И в этой обстановке личность новгород-северского князя предстает перед нами в неожиданном освещении. Будучи феодалом, человеком своей эпохи, вынужденным участвовать в княжеских усобицах (к слову сказать, летописи ни разу не говорят, что он их инициатор), Игорь Святославич по праву стал подлинным народным героем, так как постоянно был против национальной и конфессиональной ограниченности, выступал за мир между народами, между Русью и Степью.
В XI веке к этому призывал Боян; в конце XII этот призыв вместе с возрожденными поэмами Бояна был снова поднят автором "Слова…".
Похоже, имя сына Игоря читалось и в начале поэмы. В одной из своих популярных работ Б.А. Рыбаков категорически заявил, что во фразе "Почнемъ же, братие, повесть сию от старого Владимира до нынешнего Игоря" имя Игоря "или вставлено позднее, или неудачно перемещено", хотя дальше этого не пошел. С его заключением можно согласиться. Сохранившееся в тексте противопоставление "старого" - "нынешнему" требует соответствия имен, а из всех возможных "Владимиров" в данной ситуации возможен только Владимир Игоревич, поскольку его именем поэма и завершается. Появление здесь имени его отца легко объясняется ошибкой переписчика, если, исходя из ритмической структуры текста, представить первоначальное написание этой фразы как "от старого Владимира до нынешнего Игоревича".
Более того. Фраза "спала князю умъ похоти и жалость ему знамение заступи", не понята уже последующими переработчиками текста, по всем канонам лексики и грамматики древнерусского языка сообщающая, что "княжем овладела мысль ("умъ) о жене ("по хоти") и желание заслонило ему [дурные] предзнаменования", которые предупреждали об опасности, она не содержит никакой загадки, подтверждая, что первоначальным героем поэмы о событиях 1185 года был именно Владимир Игоревич, а не Игорь Святославич.
И последнее. Женитьба Владимира Игоревича на Кончаковне оказалась своего рода "камнем преткновения" для многих исследователей "Слова…", всякий раз останавливавшихся перед подобным объяснением событий в силу очередной господствующей концепции. Поэтому саму женитьбу старались игнорировать, вынося ее как бы "за скобки". Однако они не могли пройти мимо поэтического языка "Слова…", в котором фигурировали "сваты", рисовались картины "пира", слышались обрывки свадебных "слав", а образность метафор прямо перекликалась с символикой свадебной обрядовости. Разгадка напрашивалась сама собой, но "камертоном толкований" служило упорное отнесение "Слова…" в разряд дружинной, воинской поэзии. Поэтому --">Книги схожие с «Половецкая Русь» по жанру, серии, автору или названию:
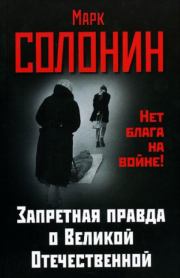 |
| Марк Семёнович Солонин - Запретная правда о Великой Отечественной. Нет блага на войне! Жанр: История: прочее Год издания: 2014 |
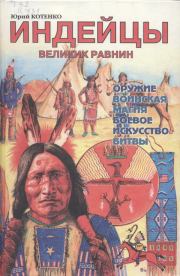 |
| Юрий Котенко - Индейцы Великих равнин Жанр: Приключения про индейцев Год издания: 1979 |
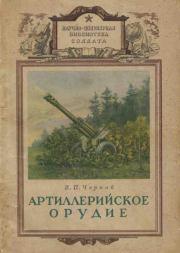 |
| В П Чернов - Артиллерийское орудие Жанр: История: прочее Год издания: 1953 |
Другие книги автора «Андрей Никитин»:
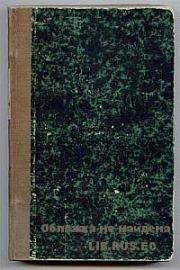 |
| Андрей Леонидович Никитин - Дороги веков Жанр: Биографии и Мемуары Год издания: 2005 |
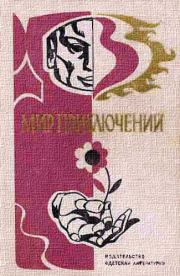 |
| Юрий Николаевич Папоров, Редьярд Джозеф Киплинг, Евгений Максимович Титаренко и др. - Альманах «Мир приключений», 1976 № 21 Жанр: Научная Фантастика Год издания: 1976 Серия: Альманах «Мир приключений» |