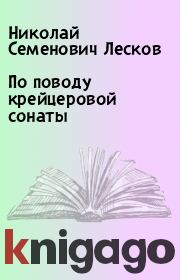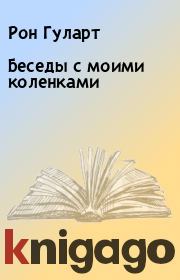Ирина Бенционовна Роднянская - Движение литературы. Том II
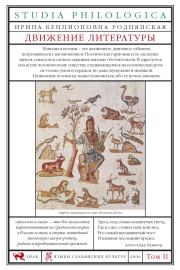 | Название: | Движение литературы. Том II |
Автор: | Ирина Бенционовна Роднянская | |
Жанр: | Языкознание, Критика | |
Изадано в серии: | Studia philologica | |
Издательство: | Знак. Языки славянских культур | |
Год издания: | 2006 | |
ISBN: | 5-9551-0147-0 | |
Отзывы: | Комментировать | |
Рейтинг: | ||
Поделись книгой с друзьями! Помощь сайту: донат на оплату сервера | ||
Краткое содержание книги "Движение литературы. Том II"
В двухтомнике представлен литературно-критический анализ движения отечественной поэзии и прозы последних четырех десятилетий в постоянном сопоставлении и соотнесении с тенденциями и с классическими именами XIX – первой половины XX в., в числе которых для автора оказались определяющими или особо значимыми Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский, Вл. Соловьев, Случевский, Блок, Платонов и Заболоцкий, – мысли о тех или иных гранях их творчества вылились в самостоятельные изыскания.
Среди литераторов-современников в кругозоре автора центральное положение занимают прозаики Андрей Битов и Владимир Маканин, поэты Александр Кушнер и Олег Чухонцев.
В посвященных современности главах обобщающего характера немало места уделено жесткой литературной полемике.
Последние два раздела второго тома отражают устойчивый интерес автора к воплощению социально-идеологических тем в специфических литературных жанрах (раздел «Идеологический роман»), а также к современному состоянию филологической науки и стиховедения (раздел «Филология и филологи»).
К этой книге применимы такие ключевые слова (теги) как: филология,полемика,русская поэзия,русская литература,история литературы,литературная критика
Читаем онлайн "Движение литературы. Том II" (ознакомительный отрывок). [Страница - 5]
Но у сопровождающей Шкляревского грусти есть еще источник: «В канаве замерзла вода. / Не может напиться собака. / Скулит из осеннего мрака. / Идут на меня холода! / И тучи гудят, как заводы. / И светятся угли в золе, / как город далекий во мгле… / Идут на меня мои годы!» Годы надвигаются из прошлого (в ветровых тучах и углях костра – память о гудке литейки и еще о том, как в детстве шли на огни по ночному лесу: «Смотри, там светит Рогачев!») и наваливаются из будущего, сжимая сердце. Это о победе законов времени, законов естества над крепким телом, бодрым настроем, над безоглядностью полнокровного житья; но одновременно с первой угрозой старости нарастает и совестная тревога. Лирику Шкляревского не раз и не два посещают призраки безблагодатного старения, налетает ужас старческой немощи и прозябания, а главное, мизерности стариковского кругозора, когда «старый хрыч» плачет над разбитой чашкой и над десяткой, потерянной в метро. И такое – вместо скитаний в лесах, ночевок у костра в обнимку с собакой, вместо тысячекилометровых маршрутов вдоль и поперек континента и азартной мускульной работы. Зачем? Почему? Тут-то приходят к герою этих стихов тени убитых животных – то волка, то совы, то еще какого-то подранка, издыхающего в зарослях. И хотя это, конечно, реальный мотив в быту охотника, никогда не скрывавшего своего пристрастия и запала, но, как и во всем, что пишет Шкляревский, здесь присутствует и второй план – более глубокое признание вины перед жизнью…
В стихах Шкляревского есть обрывистая, небрежная сила, есть обаяние кнутгамсуновского, что ли, толка. Он умеет упиваться лесным счастьем Пана. Ему в высшей степени свойственна память тела и уж через нее память сердца; он помнит, каково стоять солдату на продуваемой ветрами дозорной вышке, как нелегко во время стрижки удержать овцу, которая немногим слабее человека, как неохота с ходу нырять в ледяные мокрые кусты, спрямляя после ночной смены дорогу с завода домой. Но он же словно не вмещается в свою телесную оболочку, не может приспособиться к ее ограниченности. Отделение души от тела, появление невесомого, пространственно рассвобожденного двойника – непроизвольный мотив лирики Шкляревского, один из тех, что (как шмели Глушковой) заявляют о себе бесконтрольно. Вот отражение его в стекле вагона покрывает собой семимильный заоконный ландшафт («Ночной двойник – на весь простор… И у неведомой версты / под сердцем темные кусты / шумят… И посредине лба / дымит фабричная труба!»); вот над безбрежным жнивьем под закатным солнцем летит в беспокойном сне душа («А тело живое мое / осталось на лавке в той хате»); вот чуть не на версту растянулась его тень в сумеречной долине. Двойник – свободно парящая душа – опережает тело, заглядывает за мгновения, телом медлительно и на ощупь изживаемые, и от такого опережения тоже грусть и чувство бесцельности испытанного плотски. «Счастливые, лежим в полыни. / Над нами в голубой пустыне, / белея, облако идет… Так и мое воспоминанье / об этом дне уже сейчас / сверкает далеко от нас… Еще в полах из пиджака / не выветрился дух полыни… / Еще по голубой пустыне / идут над нами облака. / Уж эта встреча – далека…» За этим раздвоением – тоска по иному масштабу, чем тот, в котором, удачно или нет, под ласковым или неблагосклонным взором фортуны, проживаются отмеренные годы. И старость страшит не сама по себе, не как утрата молодых сил, а как клеймо, которым метят уклонившуюся от своего курса жизнь.
А ведь есть в стихах Шкляревского и другая старость, старики другого поколения. Есть отставной учитель, что живет как будто в том же отпугивающем мизере подсчетов и мелких потерь и провожает заходящих к нему словами: «Гасите свет… Гасите свет» («Не мог забыть коптилку он. К тому же скромный пенсион»), – но продолжает наставлять, помогать до самой смерти под одинокой лампочкой, которую некому было погасить. Есть отец (это все одна судьба): после него в самодельном столе осталось «так не много чудес. / Две просьбы в районный собес… / И дужки от старых очков. / Обмотаны черною ниткой. / Старательный труд вечеров, / когда хлопает ветер калиткой…». В этой эпитафии вроде бы и не слышится похвалы, а все ясно: та, отцовская, жизнь этически расценивается куда выше собственной. И --">Книги схожие с «Движение литературы. Том II» по жанру, серии, автору или названию:
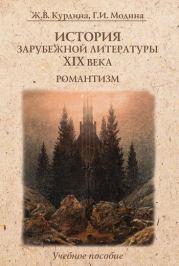 |
| Галина Ивановна Модина, Жанна Вальтеровна Курдина - История зарубежной литературы XIX века. Романтизм: учебное пособие Жанр: История: прочее Год издания: 2010 |
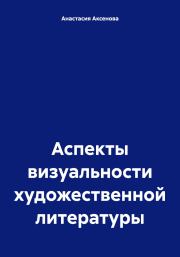 |
| Анастасия Александровна Аксенова - Аспекты визуальности художественной литературы Жанр: Детская образовательная литература Год издания: 2024 |
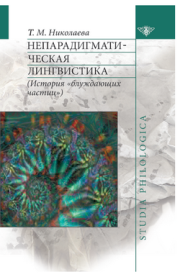 |
| Татьяна Михайловна Николаева - Непарадигматическая лингвистика Жанр: Языкознание Год издания: 2008 Серия: Studia philologica |
Другие книги из серии «Studia philologica»:
 |
| Владимир Михайлович Алпатов - Япония: язык и культура Жанр: Культурология и этнография Год издания: 2008 Серия: Studia philologica |
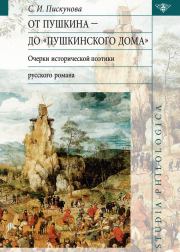 |
| Светлана Ильинична Пискунова - От Пушкина до Пушкинского дома: очерки исторической поэтики русского романа Жанр: Языкознание Год издания: 2013 Серия: Studia philologica |
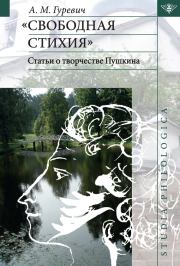 |
| Александр Михайлович Гуревич - «Свободная стихия». Статьи о творчестве Пушкина Жанр: Языкознание Год издания: 2015 Серия: Studia philologica |
 |
| Андрей Борисович Тарасов - Что есть истина? Праведники Льва Толстого Жанр: Религиоведение Год издания: 2001 Серия: Studia philologica |