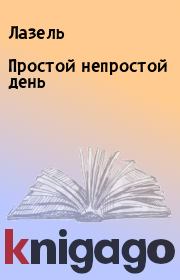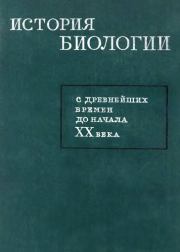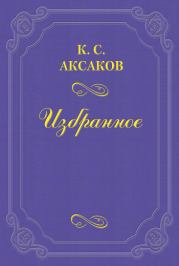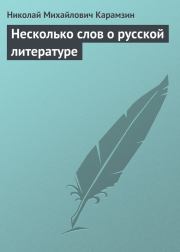Андрей Семенович Немзер - При свете Жуковского. Очерки истории русской литературы
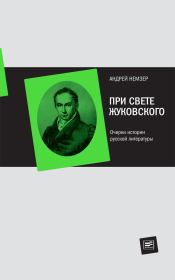 | Название: | При свете Жуковского. Очерки истории русской литературы |
Автор: | Андрей Семенович Немзер | |
Жанр: | Критика | |
Изадано в серии: | Диалог | |
Издательство: | Время | |
Год издания: | 2013 | |
ISBN: | 978-5-96911-015-1 | |
Отзывы: | Комментировать | |
Рейтинг: | ||
Поделись книгой с друзьями! Помощь сайту: донат на оплату сервера | ||
Краткое содержание книги "При свете Жуковского. Очерки истории русской литературы"
Книгу ординарного профессора Национального исследовательского университета – Высшей школы экономики (Факультет филологии) Андрея Немзера составили очерки истории русской словесности конца XVIII–XX вв. Как юношеские беседы Пушкина, Дельвига и Кюхельбекера сказались (или не сказались) в их зрелых свершениях? Кого подразумевал Гоголь под путешественником, похвалившим миргородские бублики? Что думал о легендарном прошлом Лермонтов? Над кем смеялся и чему радовался А. К. Толстой? Почему сегодня так много ставят Островского? Каково место Блока в истории русской поэзии? Почему и как Тынянов пришел к роману «Пушкин» и о чем повествует эта книга? Какие смыслы таятся в названии романа Солженицына «В круге первом»? Это далеко не полный перечень вопросов, на которые пытается ответить автор. Главным героем не только своей книги, но и всей новой русской словесности Немзер считает великого, но всегда стремящегося уйти в тень поэта – В. А. Жуковского.
К этой книге применимы такие ключевые слова (теги) как: русская классика,русская литература,книги и чтение,литературная критика,творчество великих писателей
Читаем онлайн "При свете Жуковского. Очерки истории русской литературы" (ознакомительный отрывок). [Страница - 6]
* * *
Длинная история этой книги (по сути, «моей жизни в литературоведении») подразумевает огромный благодарственный список, за каждым именем в котором стоит свой сюжет. Развернуть эти счастливые истории как должно я не могу. Меж тем уверен: если в моих «неоконченных повестях» мерцает что-то живое, радующее читателя и стимулирующее его ответную мысль, если что-то путное сделать мне все же удалось, то главная заслуга здесь тех удивительных людей, в присутствии которых шла моя жизнь. И идет сейчас, когда земное бытие многих из них окончилось.Это мои мама – Лидия Петровна Соболева (1924–1998) – и папа – Семен Аронович Немзер (1923–2007). По роду деятельности они не были гуманитариями. Они просто глубоко чувствовали слово, умели бескорыстно восхищаться искусством и мыслью, знали, что живут в истории и в России, верили в существование вечных ценностей. Вся моя «гуманитарность» – от них.
Это учителя, у которых я скверно (вздорничая, споря, глупо обижаясь, не умея по-настоящему понять), но все же учился. «Прямые» (чьи лекции в МГУ слушал, кому экзамены сдавал, под чьим водительством первые работы писал) и «сторонние» (на чьих книгах рос, чьи работы и доклады старался не пропускать, в расчете на внимание которых изобретал свои велосипеды). Два множества не совпадали, но пересекались. Конечно, филфак МГУ 1970-х был никак не платоновской академией, а вполне советским заведением. Но, во-первых, других тогда не было (кроме тартуской кафедры истории русской литературы). Во-вторых, нам достались, наверно, лучшие годы факультета, деканом которого ненадолго стал Л. Г. Андреев (1922–2001)[7]. Я слушал лекции М. В. Панова (1920–2001; русская фонетика; между прочим, замечательный лингвист был незадолго до того исключен из правящей партии), А. П. Чудакова (1938–2005; язык художественной литературы), А. В. Карельского (1936–1993; история европейской литературы XIX в.), В. Н. Турбина (1927–1993; история русской литературы первой половины XIX в.[8]), Б. А. Успенского (история русского литературного языка; мы были подопытными кроликами, на которых отрабатывался этот – ныне классический – курс), В. Е. Хализева (теория литературы; у него и в семинаре работал). Последнюю курсовую и диплом писал под руководством А. И. Журавлевой (1938–2009) – автора непревзвойденных (думаю – и непревосходимых) работ об Островском, заботливого и мудрого наставника многих несхожих исследователей, человека, в котором чарующая, в каждом жесте ощутимая, доброта органично сочеталась с непоказной верностью идеалам[9]. Так что грех мне вослед пушкинскому альманашнику скулить: «Руссо <…> был человек ученый, а я учился в Московском университете»! Если худо выучился, сам виноват. И неизвестно, много ли пользы принес бы тебе любимый Тартуский, кабы просидел ты в Ливонских Афинах пять лет[10], а не наезжал туда на три-четыре конференционных дня!
Это я себя «строю», а Тарту был и остается чудом! Не сводящимся ни к «структурализму», ни даже к личности Ю. М. Лотмана (1922–1993). На студенческих конференциях мы – неофиты из разных углов страны – действительно узнавали, что такое наука и ученое сообщество. Редкий доклад оставался неуслышанным, не получал взыскательной оценки. Мы со своими то завиральными, то школярскими «концепциями» были по-настоящему интересны старшим. Нас щедро хвалили – и остерегали, корректировали, оделяли конструктивными советами. С нами беседовали на равных – и показывали, сколь многого мы не знаем. Нас учили вниманию друг к другу, умению расслышать неожиданную (не на тешащем слух модном языке выраженную!) мысль, терпимости, самоконтролю, уважению к преданию, любви к профессии, корпоративной этике. Я усваивал эти уроки не лучшим образом, но с годами осознаю их значимость все больше, все яснее понимаю, как много дали мне Ю. М. Лотман, З. Г. Минц (1927–1990), П. С. Рейфман (1923–2011), Л. И. Вольперт и их коллеги по кафедре русской литературы. Уверен: не только мне, но всем, кто некогда дышал тартуским воздухом свободы, веселой науки, молодого дружества.
Учили, одаривали, помогали жить и не сбиваться с пути и другие старшие. Друзья родителей и родители друзей, писатели, филологи, историки, критики, редакторы… Ю. П. Благоволина (1928–2005), --">Книги схожие с «При свете Жуковского. Очерки истории русской литературы» по жанру, серии, автору или названию:
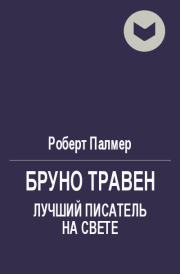 |
| Роберт Палмер - Бруно Травен. Лучший писатель на свете Жанр: Критика Год издания: 2017 |
 |
| Анатолий Васильевич Луначарский - Том 4. История западноевропейской литературы Жанр: Критика Год издания: 1964 Серия: Собрание сочинений в восьми томах |
Другие книги из серии «Диалог»:
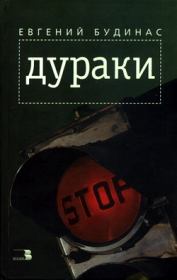 |
| Евгений Доминикович Будинас - Дураки Жанр: Современная проза Год издания: 2001 Серия: Диалог |
 |
| Константин Петрович Феоктистов - Зато мы делали ракеты. Воспоминания и размышления космонавта-исследователя Жанр: Биографии и Мемуары Год издания: 2005 Серия: Диалог |
 |
| Яков Аркадьевич Гордин - Пушкин. Бродский. Империя и судьба. Том 2. Тем, кто на том берегу реки Жанр: Публицистика Год издания: 2016 Серия: Диалог |
 |
| Мария Семеновна Галина, Линор Горалик, Людмила Евгеньевна Улицкая и др. - Казенный дом и другие детские впечатления Жанр: Современная проза Год издания: 2019 Серия: Диалог |